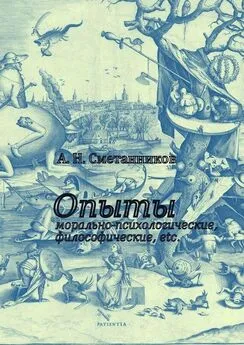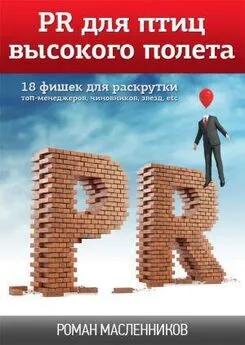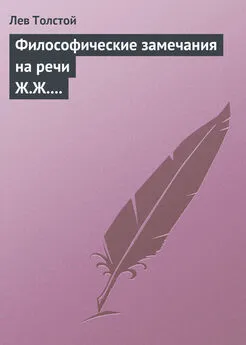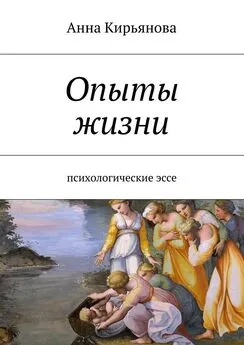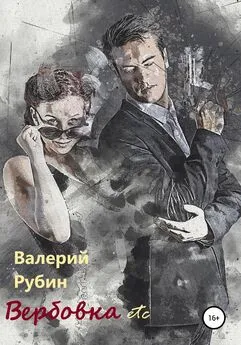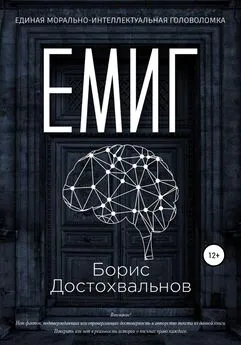А. Сметанников - Опыты морально-психологические, философические, etc.
- Название:Опыты морально-психологические, философические, etc.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448343612
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Сметанников - Опыты морально-психологические, философические, etc. краткое содержание
Опыты морально-психологические, философические, etc. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Общность владения, ее мера – должна соответствовать реальному онтическому статусу конкретной общности, объединяющей владельцев. Так, имущество супругов может быть и обычно бывает общим, и это обосновано реальной общностью совместной жизни, объединяющей их любовью и т. д. Иными словами, общность владения поддерживается общностью семьи как некоего континуума общения между членами семьи. Если эта истинная, в качестве формы длящегося общения духовная по сути, общность нарушается, и обнаруживается, что совместная жизнь далее невозможна, и семья распадается, – вместе с этим, как правило, происходит и раздел имущества. Имущество же даже самых близких друзей почти никогда общим не бывает, и уж вовсе абсурдным было бы, например, предложение об объединении имущества отдаленно знакомых между собой людей или просто прохожих на улице. Все формы символизированного владения – деньги, акции и др. – есть только формы частной собственности, поскольку такое владение в действительности раздельно – в отличие от общественной собственности.
Общественная собственность есть первобытная форма владения, примитивная и архаическая. Родовая, общинная, или общественная собственность происходит из «собственности» стада диких травоядных на некую территорию, т. е. на то, что произрастает на ней, или «собственности» стаи хищников на этот же временный ареал и, в том числе, например, на тушу задранной антилопы. Все особи участвуют в использовании природных ресурсов, имеющихся на данной территории – в поедании травы или в пожирании туши. Однако ресурсы, как правило, ограниченны, а также различны по качеству, поэтому происходит борьба за их использование, в которой проигрывают больные, слабые, старые и проч. Отсюда уже видна нелепость представлений о «первобытном коммунизме», общности имущества и справедливого пользования им на заре истории, которую воображали себе, в частности, Руссо, Морган, или Маркс.
Первое закрепление прав – это иерархия в группе, система статусов, определяющих срочность доступа к пище и сексу как основным видам совместных ресурсов промискуитетной грегарной группы. Кроме легенд о «золотом веке» или грёз Руссо, нет оснований полагать, что иерархии не было в человеческих полигамных группах, притом что она наличествует у большинства грегарных видов, от птиц до высших приматов.
По происхождению своему каждое право – это право завоевания, право силы. Это не значит, однако, что оно остается таковым по существу. Право как раз становится правом, когда осознается само по себе, как соответствующее экзистенциальной ситуации человека, отвечающее характеристике человеческого, которую мы обозначим как множественность единств . Это парадоксальная ситуация, в которой обнаруживается различие между добром и злом, отсутствующее в дочеловеческой природе. Осознание этой ситуации совершилось в истории через теистическое просвещение.
Неразделенная, общая собственность группы есть актуально, на деле, собственность ее главы – главы семьи, вождя, совета старейшин, и т. п.: ресурсами группы распоряжается тот, кто координирует и вообще всю жизнедеятельность группы. Здесь владение составляет еще, таким образом, часть власти, неотъемлемо от нее, не выделено из нее. При этом возможно, что распоряжение общей собственностью осуществляется действительно в интересах группы и ее членов. Это тем более вероятно, чем меньше группа и чем более реальна ее общность как континуум непосредственного общения. Ясно, что наиболее велика она в парной семье. Если же мы представим себе патронимию, состоящую из нескольких десятков таких семей, не каждая из которых представлена в совете старейшин, или из нескольких тысяч семей, из которых представлены в нем лишь очень немногие, то справедливость пользования общей собственностью в таких группах может вызывать все больше сомнений.
Впрочем, следует подчеркнуть тут другой аспект проблемы. Независимо от эгоистических или «альтруистических» мотивов конкретного управляющего общей собственностью, его личность как бы «тучнеет» за счет личностей тех, кто не принимает участия в распоряжении собственностью, т. е. рядовых членов группы. И это тем более, чем многочисленнее группа и, тем самым, менее реальна ее общность. Ясно ведь, что поскольку управляющие больше влияют на реальность, они тем самым и участвуют в реальности более, нежели управляемые – и в этом соблазн власти и отсюда желание власти в каждом человеке. Власть есть возможность влиять на реальность и, тем самым, осуществляться в ней, воплощать в ней свою волю и свое Я. Отсюда наслаждение от власти, которое один из бывших членов Политбюро ЦК КПСС сравнил как-то в интервью с оргазмом. Отсюда же и та опасность развращения властью, которую подчеркивал лорд Актон.
Единая, неразделенная или нечетко, т. е. без правовых гарантий, обеспеченных самой структурой общества, разделенная собственность группы, управляемая ее вождями – это прототип всех форм государственной собственности. Это собственность-власть. По мере роста численности конкретной группы и неизбежного разделения ее на подгруппы («ячейки общества»), рядовые ее члены принимают все меньшее участие в управлении ею и все более лишаются возможностей выбора (свободы выбора).
Надо подчеркнуть, что нас интересуют здесь не конкретно-исторические формы господства и варианты его установления вплоть до создания государств, но наиболее общие принципы структурирования отношений власти и владения.
Итак, общественная собственность – это собственность, основанная непосредственно на власти, частная же собственность отделена от власти. Общественная собственность соответствует патерналистскому (или патримониальному, вотчинному) способу управления группой или государством, тогда как частная собственность предполагает элементы самоуправления, т. е. свободы. Соответственно, можно описать два предельных (альтернативных) варианта (идеальных типа) построения отношений власти и владения (собственности), различные смешанные формы которых составляют все многообразие режимов и социальных форм.
В первом случае первоначальный тип «отеческой», вождеской власти или власти старейшин, содержащей в себе имплицитно также право распоряжения общими ресурсами группы, развивается экстенсивно, охватывая все более многочисленные коллективы и населенное ими пространство. Власть остается единой, патримониальной, имперской: династ властвует надо всеми и владеет всем. Сохраняется вообще архаическое единство власти и права (и в том числе – права собственности, владения). Схема властных отношений – моноцент-рическая. Предусмотрены покорность и повиновение со стороны всех членов социума, обеспеченные прежде всего именно отсутствием у них собственности, и по большому счету отсутствием вообще privacy, частности как выделенности из общности. При этом общность собственности насильственно накладывается на актуально или потенциально автономные континуумы общения и на индивидов, спонтанное развитие которых подавляется.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: