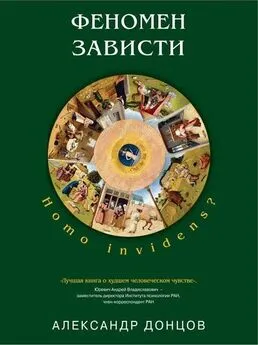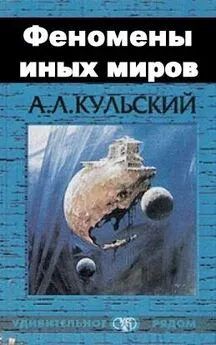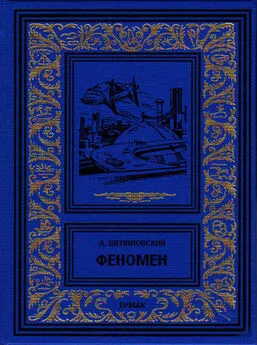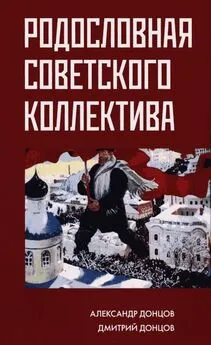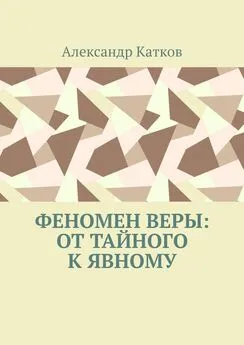Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens?
- Название:Феномен зависти. Homo invidens?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-74716-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens? краткое содержание
Феномен зависти. Homo invidens? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вспомнив наиболее популярные дефиниции, первым среди подобных свойств следовало бы, по-видимому, назвать разумность. Homo sapiens – всякий чуточку образованный человек хотя бы раз не без удовольствия слышал и не без гордости провозглашал этот очевидный комплимент мыслительным способностям себе подобных. Сомневаюсь, что великий шведский натуралист К. Линней, который ввел в научный оборот этот термин для обозначения неандертальцев, кроманьонцев и современных людей, рассчитывал, насколько лестным окажется это словосочетание для современников и благодарных потомков. Не менее известное атрибутивное определение человека – homo faber – «ремесленник», «созидатель», то есть существо производящее. Самое время принести хвалу Создателю за вместительный череп, прямохождение и хорошо развитый, полностью противопоставленный остальным, большой палец руки. Ведь благодаря этому человек научился точно манипулировать предметами, создавать и использовать орудия, другими словами, выживать, невзирая на очевидную биологическую неприспособленность. Не случайно один из исчезнувших видов ранних гоминид, овладевших навыками обработки камней около двух миллионов лет назад, антропологи именуют homo habilis – «человек умелый». Некоторые авторы, восхищенные созидательными возможностями человека, поспешили провозгласить его творцом – homo creator, что, разумеется, было благосклонно воспринято читающей публикой (оставим философам обсуждение вопроса о критериях, пределах и последствиях человеческого творчества). Поскольку одним из главных результатов творческой активности людей являются символы, прежде всего слова, Э. Кассирер предложил назвать человека существом символическим – homo simbolicus. Еще одним отличительным свойством человека, заслуживающим упоминания в этом ряду, является его общественный характер. Политическим животным именовал человека Аристотель, экономическим его окрестили на заре европейского Нового времени, а уж вызубренную в студенческие годы формулу человека как «совокупности всех общественных отношений» гуманитарии старшего поколения вспомнят и разбуженные ночью. Ориентируясь на реестры отличительных свойств человека, составленные серьезными философами, к названным характеристикам добавлю лишь две: отмеченную Б. Спинозой способность, познав необходимость, обрести свободу (homo liber), и раскрытый Й. Хёйзингой дар игрового отношения к действительности (homo ludens). Мне симпатичны попытки представить смех и стыд как прерогативу человека, но по мордам и хвостам наших мопсов знаю, они тоже способны их испытывать.
Подводя итоги блицобзора трактовок человека, испытываю два взаимоисключающих чувства: глубокого удовлетворения от принадлежности к виду, обладающему столь значительными достоинствами (разум, свобода, созидание, творчество…), и глубокого сомнения, любой ли представитель данного вида – homo naturalis – в полной мере владеет этим богатством. Разумеется, слегка поднатужившись, каждый назовет несколько разумных, деятельных, творчески одаренных, социально адаптированных и по-своему свободных современников, хотя эти дары чаще встречаются не оптом, а в розницу. Увы, люди, лишенные подобных способностей, всплывают в памяти без запинки. Складывается впечатление, перечисленные отличительные свойства человека не столько задают границу между ним и иными живыми существами, сколько выделяют «отличников» рода человеческого. Получается нечто схожее с застывшими физиономиями передовиков производства на доске почета советского времени.
Авторы статьи «Человек» в 4-томной «Новой философской энциклопедии», посетовав на отсутствие развитой и общепринятой концепции человека, отмечают: «Вся история философской мысли и есть в значительной мере поиск такого определения природы человека и смысла его существования в мире, которое, с одной стороны, полностью согласовывалось бы с эмпирическими данными о свойствах человека, а с другой – высвечивало бы в будущем перспективы его развития» [3] Фролов И.Т., Борзенков В.Г. Человек // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 4. М., 2001. С. 344.
. Стало быть, стратегия философских поисков человеческого естества состоит в попытке совместить его нынешнюю жизненную реальность с тем обликом, который оно сможет и должно приобрести в неблизком благоприятном будущем. Реализуя названную стратегию, философы и философствующие представители конкретных человековедческих дисциплин сосредоточили усилия главным образом на проектировании идеального Человека, царство которого наступит в светлом завтра. Почему конструирование эталона стало центральным предметом раздумий о судьбе человека? Причин много. Во-первых, мечты о прекрасном будущем, как и прошлом, – лучшее лекарство от тягот настоящего. Во-вторых, нет мыслителя, который втайне не мечтал бы прослыть пророком. В-третьих, кроме славы пророка, проектирование человека позволяет надеяться на статус и гонорары творца: идеал ведь не просто манит, но и продается заказчику в упаковке всяческих «развивающих» тренингов, консультирования и т. п. Итог? Конструкт человека, напоминающий монументального слащавого Франкенштейна, небрежно сшитого из плохо подогнанных достоинств и озабоченного идеей непрестанного самосовершенствования.
Не будем чрезмерно иронизировать. У А.А. Гусейнова, отвечающего на вопрос «что же мы такое?», нашлись весомые аргументы для вывода, что «человека в природном, физическом мире отличает его нежелание примириться со своим положением. Он не отождествляет себя со своим эмпирическим бытием, телесностью, пассивно – страдательным статусом в мире, со своей тварностью. Человек – существо, и, видимо, единственное существо, которое взбунтовалось против своего существования» [4] Гусейнов А.А. Что же мы такое? // Многомерный образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке. М., 2007. С. 100.
. Автор называет человека «животным, устыдившимся своей животности», настаивая: «Внутреннее недовольство, отрицательное отношение человека к своему наличному бытию – не одно из психологических свойств человека, а самая основа его психологии» [5] Там же. С. 94.
. Сказано возвышенно, и не хочется спорить, тем более в «Античной этике» [6] Гусейнов А.А. Античная этика. М., 2004.
тот же автор убедительно показал: моральные каноны, осмысленные и сформулированные древними мудрецами, – не просто игра досужего ума философов. В их утверждении восторженные последователи обретали столь полное счастье, что готовы были заплатить за него самой жизнью. Впрочем, и без экзальтированной веры в строгую добродетель как дорогу к бессмертию, «этика, – подчеркивает другой философ, – является чудесным средством, благодаря которому человек может сохранить себя посреди тягот и соблазнов, может свободно говорить о самом себе как о самом важном на свете, задаваться вопросами о сверхнеобходимом» [7] Дубко Е.Л. История европейской этики. М., 2007. С. 5.
.
Интервал:
Закладка: