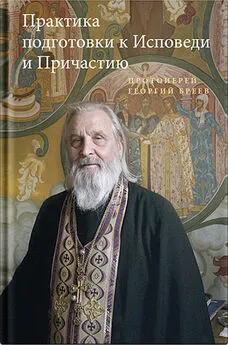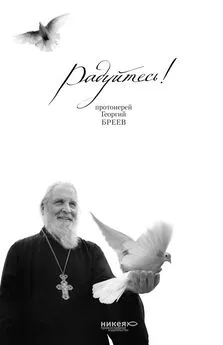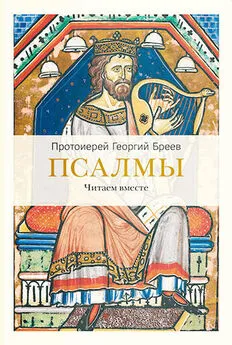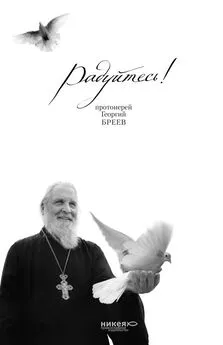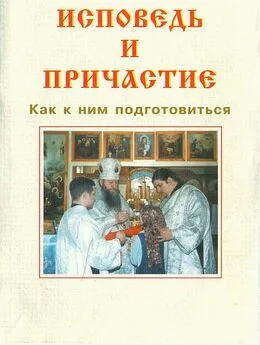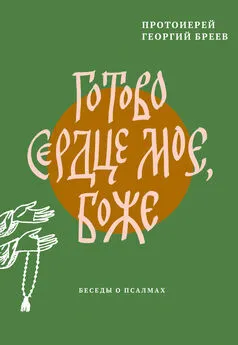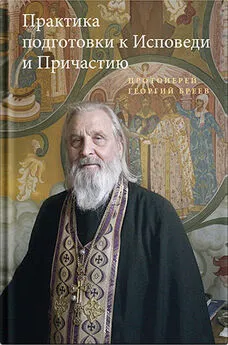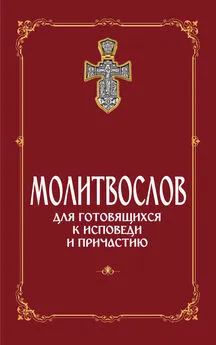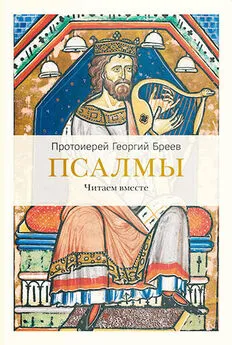Георгий Бреев - Практика подготовки к Исповеди и Причастию
- Название:Практика подготовки к Исповеди и Причастию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Никея
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-922-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Бреев - Практика подготовки к Исповеди и Причастию краткое содержание
Практика подготовки к Исповеди и Причастию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не ставь на первое место свой грех, забудь сейчас о нем, а поставь на первое место в сознании: «Бог». Вот Бог стоит и тебя призывает. А грехи, когда готовишься к Причастию, читаешь дома Канон покаянный, молитвы, там их и оставь. Ты сделал все необходимое, а теперь идешь в церковь и только. Идет литургия, ты подошел к Чаше… Забудь и про себя, и про все – вот совершенно правильный подход.
Когда преподобного Антония Великого спросили: «Какая самая высокая добродетель?», он ответил: «Дар рассуждения». Не подвиг, не распятие ветхого человека со страстьми и похотьми, хотя и это в какую-то свою меру мы можем совершать, да… Но все-таки, когда мы стоим на грани мира духовного и мира нашего, обыденного, необходимо прибегать к рассуждению. Внутренне, сердцем чувствовать и видеть жизнь Церкви.
Время – наш крест, век наш – это наш крест. XIX век свое принес, XXI век – что-то он еще принесет… Но Слово-то Божие останется то же, Евангелие то же, Бог один и тот же…
Когда я учился в семинарии, то думал, что эпоха Российской империи была для Церкви временем расцвета. Однако все было не так просто, потому что архиереи-ревнители и не всегда могли сказать нужное слово, и никто их и не послушал бы. Нужно, чтобы власть позволила, дала возможность церковным иерархам высказаться, а это часто запрещалось. Появлялся какой-то архимандрит или священник, который учил не так, – его просто ссылали и все, вот Иова Анзерского Иван Грозный отправил на Соловки…
Народ в массе своей оставался непросвещенным. Почитаешь записки священников XIX века, узнаешь, в каких условиях жили простые деревенские батюшки, и содрогнешься – в бедности, семью не всегда могли прокормить. И кто поднимал голос в защиту Церкви? Святитель Феофан Вышенский говорил о том, что надо как можно чаще причащаться. Святой праведный Иоанн Кронштадтский – он ликовал, вынося Чашу, и даже, есть такая запись, чуть ли не по второму разу давал Причастие, чтобы только почувствовали, какая сила – Святые Тайны. Эти подвижники и другие, в отдельных монастырях, в Оптиной пустыни, жили литургией, причащением. А народ, не приученный к деятельной духовной жизни, был пассивным. Слово Божие то же, каноны великолепные, прекрасные те же, но духовное пробуждение коснулось лишь части церковных людей. Если посмотреть жития оптинских старцев, сборники их поучений и ответов на вопросы, то видно, что это была сплошная немощь человеческая, чувствуется, что люди тянулись к Церкви, но еще не жили по-настоящему по-христиански. Таково было состояние общества, церковного общества, Церкви. Духовность еще не раскрылась во всей полноте. Одни только святые старцы, преподобный Серафим Саровский и другие, открывали и сейчас так же для нас открывают пути духовной жизни. И тот, кто искал, стремился к Богу, уяснял эти пути, – люди духовные – были во все времена.
Духовность раскрылась, когда после революции начались гонения. Вот тогда все поняли, что Церковь как собрание верующих поддерживается только Евхаристией и частым причащением: сегодня ты жив, а завтра тебя арестуют, храм взорвут… Появилась жажда богообщения.
А в послевоенные годы открытых храмов было мало, и некоторые священники не желали, чтобы больше народу причащалось, потому что приходилось много исповедовать. Но как поисповедовать 500–600 человек за полчаса? В тех условиях спасала общая исповедь.
Общая исповедь началась с Иоанна Кронштадтского, потому что к нему в Андреевский собор приходило по десять тысяч кающихся, и он физически не мог у каждого принять исповедь. Но он говорил им слово, пронизанное такой энергией благодати, что люди каялись, рыдая и бия себя в грудь… А потом священники накладывали им на голову епитрахиль и причащали эту толпу по нескольку часов.
Вот я, молодой священник в московском храме, пришел служить литургию, и настоятель мне говорит: «Иди, батюшка, исповедуй, там сегодня человек четыреста исповедников, а к „Отче наш“ ты уже должен исповедь закончить и прийти в алтарь». Как? Как?! Я и не знал, кто такой Иоанн Кронштадтский, книг его не читал, тогда православная литература не издавалась, но я почувствовал, что если я не скажу людям слово от души, от сердца, чем я сам живу, то они будут причащаться такими, какими пришли. И вот я выходил, сперва подобрав короткий текст из Евангелия, например: Если не покаетесь, все погибнете (Лк. 13: 3), брал его за основу и прямо на ходу начинал развивать тему. Если это был праздник, то выбирал текст из тропарей праздничного канона, из стихир, в них всегда найдешь зерно, где отражена потребность христианской души приступить к Богу с глубоким раскаянием. Минут 15–20 я говорил, смотришь, у одного слеза потекла, у другого… Я увидел, что слова доходят до сердец, и понял, что так и надо делать. А потом читал общую молитву, чтоб Господь всем, кто каялся, простил грехи, и накладывал епитрахиль; что-то экстренное можно было исповедать в этот момент.
На приходе служили два-три священника, а в праздник на раннюю службу приходило причаститься человек 600 и на позднюю столько же. Столько даже причастить одному священнику невозможно, поэтому и нужно было, поисповедовав, сразу идти помогать. За режимом следили власти, из исполкома приходили: «Что-то у вас службы затянулись… Вы там давайте, вовремя заканчивайте, чтоб в двенадцать часов народу не было в церкви…» А уж если воскресенье приходилось на какой-нибудь советский праздник, то даже расписание меняли, раннюю и позднюю не служили, а служба свершалась одна, в восемь часов утра – до десяти. Демонстрация идет, в рупор что-то кричат, музыка играет, а тут в храме народ стоит… Верующие все это знали и никаких претензий к священникам не предъявляли. Но священник сам понимал, что надо что-то сделать, чтобы зажечь в людях хоть маленький огонек веры, покаяния, любви к Богу, понимания, что мы не делаем в жизни самого важного…
В любых ситуациях нельзя угашать в себе искренность. Как Иоанн Кронштадтский говорил – я ссылаюсь на него, потому что много читал его и мне очень близки его слова, – что священник должен в своих молитвах истинствовать, чтобы слово не расходилось с внутренним настроением, молитвой, и совершает ли он панихиду, молебен или требу, надо чувствовать, что везде Один и Тот же Бог, к Которому мы обращаемся, Которого умоляем. Должна быть молитвенность, не пустозвонство, а подлинное служение Богу.
Вот таким образом обходились в самые неудобные времена… Помню, я скорбел, когда мне снова и снова поручали проводить исповедь и я не служил литургию и не причащался. Тогда я сказал себе: «Ты идешь делать дело Божие, приобщить эти души ко Христу, через тебя, через очистительные молитвы, через покаяние они причастятся Ему. Разве же ты посторонний, разве ты этим не служишь Богу?» И мне это давало такую радость, душа ликовала – вот оно, духовное причащение: Бог рядом с тобой, и духовная благодать тебя не оставляет, делает причастником.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: