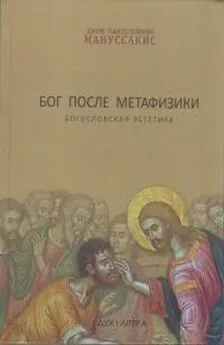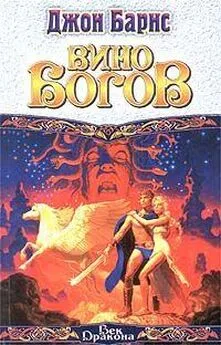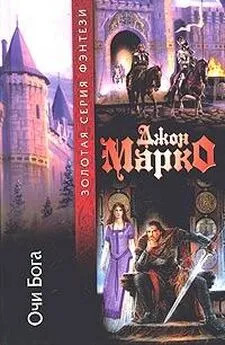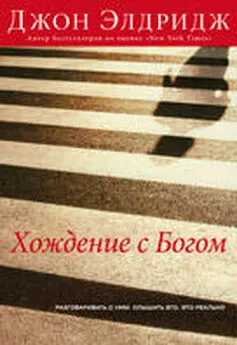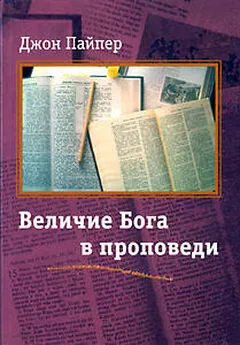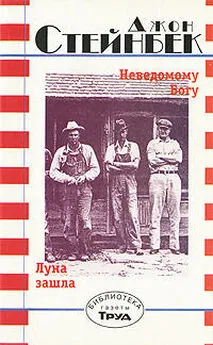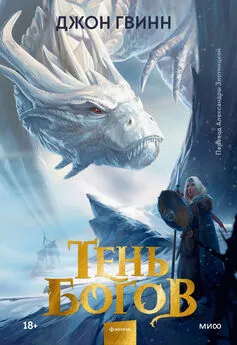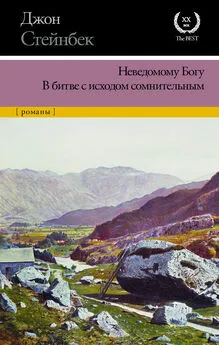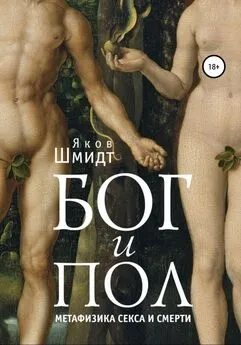Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Название:Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДУХ І ЛІТЕРА
- Год:2014
- Город:Кiев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика краткое содержание
Отец Джон родился в Афинах (Греция) и получил образование в Соединенных Штатах (степень Ph.D. в Бостонском колледже). Труды автора посвящены философии религии, феноменологии (особенно Хайдеггера и Мариона), Платону и неоплатонической традиции, а также патристике.
Книга "Бог после метафизики. Богословская эстетика" посвящена феноменологическому анализу Богообщения. Автор предупреждает, что под эстетикой имеется в виду не наука о прекрасном, а эстезис— чувственное восприятие. В центре внимания книги — три основных чувства, с помощью которых мы можем познавать Бога — зрение, слух и осязание.
Исходный djvu —
.
Предание.ру - самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете: лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах; в свободном доступе, для всех.
Бог после метафизики. Богословская эстетика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Обратим внимание, как Марион отсылает к Аристотелю, предлагая в скобках Аристотелевскую терминологию (усия проте из Метафизики , прос ти из Категорий ). Это указание на то, что данный тезис следует понимать в собственно метафизическом контексте, однако, по-видимому, в противопоставлении греческим началам метафизики. Третья редукция как будто прорывается сквозь многовековую традицию мышления, пытаясь вернуться к до-метафизическому пониманию себя.
Это, стало быть, возвращает нас к вопросу об индивидуации, Аристотелевской mode ти , но тотчас же мы получаем ответ, объясняющий конкретность определенного вида или сущности, — но ответ, радикально отличающийся от всего, что могла предложить нам метафизическая традиция: отношение. «К чему» ( прос ти ), говорит Марион, наиболее легковесная из всех Аристотелевских категорий, получает первенство над наивысшей инстанцией бытия (усия проте); последняя оказывается результатом первой. Противостояние аристотелианской метафизике необходимо, чтобы освободить феноменологию от ее собственной метафизической ноши: неспособности интенционалъности объяснить конкретное. Как Марион замечал уже ранее, утверждение, что «сознание интенционально является всем» [103]— это не более чем парафраз Аристотелевской протоинтенциональности: «некоторым образом душа есть все сущее» (De Anima , 431b 21). Двадцать четыре века философских исканий привели лишь к превращению этого «некоторым образом» в «интенциональность».
Даже при беглом чтении утверждения Мариона бросается в глаза этот логический анахронизм: существование «одаренного» предстает следствием отношения (вопреки каузальному подходу, для которого отношение — просто результат субъекта-причины, по сути, «механически» производящего его). Во-вторых, определяя существование «одаренного» на основе отношения (отношение предшествует одаренному), Марион, похоже, представляет своего Vadonne тем, что мы описываем как просопон . Действительно, хотя на протяжении всей книги Быть дйнным Марион последовательно придерживается двойственности «к кому / чему» («to whom/ which»), — в конце он все-таки указывает, что только «„к кому“, — и никогда не „к чему“, — может быть полноценно обращен зов, — представляя даваемое таким образом, что оно проявляется в мире» [104]. Более того, «к кому» обязательно указывает на другую личность: «Он [ Vadonne ] [105]... открывает лицо, и теперь ему в лицо можно смотреть лишь как на личностного другого» [106].
Феноменология Мариона сталкивается с проблемой индивидуального и требует решения, отдающего отношению приоритет над природой, сознанием, бытием и существованием. И в самом деле, одаренный (Vadonne) вступает в бытие в ответ на зов ( l’interloque ), призывающий его к бытию: Юноша! тебе говорю, встань! «Так рождается одаренный, — пишет Марион, — которого зов делает преемником «субъекта», как всецело получающий себя от дающего» [107]. Призыв зова, его поразительность, сам зов и его фактичность — эта четырехчастная феноменология данности — показывают Я, данное себе происхождением, предшествующим ему и предваряющим его, — и в то же время парадокс Я, которое, получая себя, также предшествует себе и предваряет себя. Итак, принципом индивидуации ( principium individuationis) для этого феноменологического подхода предстает Другой, личностный Другой, который, пребывая в отношении со мной, дарует мне меня как соотнесенную самость (relational selfhood) или, иначе говоря, prosopon, «Соответственно, моя единственная индивидуальность или же самость обретается исключительно в фактичности, возлагаемой на меня словом, изначально услышанным в зове, а не произнесенным мною самим» [108].
Однако остается еще вопрос: как понимать онтологическое первенство отношения над существованием, если для Мариона, грубо говоря, adonne сначала вступает в отношение, а уже затем — в бытие?
Непоследовательность логики Мариона особенно бросается в глаза, если мы придерживаемся взгляда на личностность или самость, основанного на субстанции (Боэций), сознании (от Локка до Гуссерля), воли (Шопенгауэр и Ницше), или даже бытии (Хайдеггер) и существовании (Сартр). Все эти определения грешат в двух отношениях: (а) они предполагают логическое первенство агента или субъекта ( subjectum ), иными словами, того, что последовательно «тянет на себе» действие субсистирования, воления, бытия, сознания, и (б) они не способны объяснить специфичность этой конкретной личности, говоря только о личностях вообще. Однако все проблемы с утверждением Мариона исчезнут, если мы дадим личности новое определение, как предлагает сам Марион, на основании отношения.
Возможно, недостатки различных пониманий личностности будет легче оценить, просто перечисляя этические дилеммы, возникающие в результате ассоциации личностности с сознанием или с бытием (в смысле биологического существования). Отождествление личностности с сознанием гложет привести к постановке вопроса (действительно широко обсуждаемого сегодня в правовых дебатах), распространяется ли статус личности и соответствующие права на младенцев, нерожденных детей, людей с тяжкими психическими расстройствами или пребывающих в коме. То же касается и отождествления личностности с бытием или существованием. Имеют ли статус личности усопшие? Имеет ли мертвое тело достоинство личности? (Современное законодательство, похоже, дает на эти ответы утвердительный ответ, поскольку оно распространяет на мертвых права личности, например, защищая их от поругания и т.п.). Современной генетике, сводящей личность к геному, остается только удивляться случаям, когда у одного человека выявляется более одного набора генного материала (химеризм). Согласно стандартам биологического понимания личности, каждая «химерическая» личность должна расцениваться как несколько лиц [109].
Только основывая личностность на отношении, мы сможем решить эти этические дилеммы. Нерожденный ребенок — личность, потому, что это ребенок своей матери, а значит, даже до рождения он входит в связь отношения, наделяющего его статусом личности. Погибший сын или почившая мать продолжают быть личностями, поскольку их связь с пережившими их родными не нарушается смертью (напомним читателю место из Евангелия от Луки, взятое в качестве эпиграфа этой главы). Это особенно отчетливо видно на примере супругов: когда один из них умирает, другой никогда не «свободен» от отношения, установленного их браком. В самом деле, он не становится снова холостяком, а становится вдовцом. Остается подчеркнуть, что отношение, связывающее двух людей еще до их рождения и даже после их смерти, — это не социологический или политический феномен (как его, увы, рассматривают сегодня большинство мыслителей), а онтологическое явление. Оно затрагивает самую сердцевину их сущности, ведь именно отношение и лежит в основе этой сущности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: