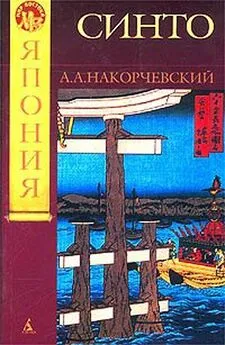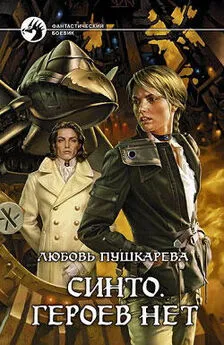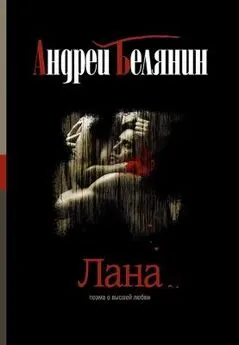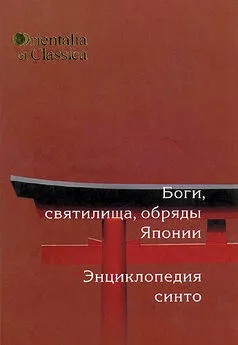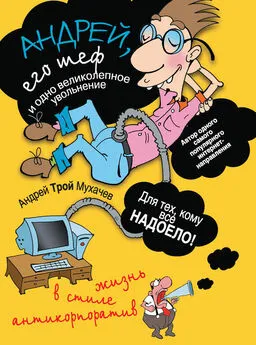Андрей Накорчевский - Синто
- Название:Синто
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Азбука-классика» «Петербургское Востоковедение»
- Год:2003
- Город:СанктПетербург
- ISBN:5-85803-237-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Накорчевский - Синто краткое содержание
Синто рассматривается неотрывно от японской истории, в большинстве его аспектов и проявлений — как в плане структуры, так и в плане исторических трансформаций, возникающих при взаимодействии с иными религиозными традициями.
Японская мифология и божества ками, синтоистские святилища и мистика в синто, демоны и духи — обо всем этом увлекательно рассказывает А. А. Накорчевский (Университет Кэйо, Токио), сочетая при том популярность изложения материала с научной строгостью подхода к нему. Первое издание книги стало бестселлером и было отмечено многочисленными отзывами, рецензиями и дипломами. Второе издание, как водится, исправленное и дополненное.
Синто - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Традиционно эта идея синтеза или симбиоза и в Китае и в Японии формулировалась как «единство трех учений» ( санго: [санке:] итти ). Различие было лишь в том, что место даосизма в Японии заняло синто. Однако произошло это не сразу.
В самом Китае (V–VI вв.) все начиналось со споров о преимуществах той или иной традиции, причем уровень аргументации соответствовал эпохе: даосы доказывали, что будда Шакьямуни — это на самом деле даосский мудрец Лао-цзы, перебравшийся в Индию, на что буддисты отвечали, что не только Лао-цзы, но и Конфуций суть бодхисаттвы, явившиеся в Китай спасти местный народ.
Первые же попытки действительной интеграции этих учений на уровне идейном (на практическом «народном» уровне сосуществование многих верований уже было данностью) относятся к более позднему времени. В Китае это началось в IX в., причем центром новых идей стали чаньские (дзэнские) монастыри. Дело в том, что для буддизма это был тяжкий период официально санкционированных гонений, и теория о единосущности буддизма с местным конфуцианством и даосизмом использовалась китайскими монахами в оправдание своей полезности как своего рода защита от притеснений. В Японии же эти теоретические построения в полной мере были востребованы лишь в XIII в., и точно так же, как в Китае, в роли их главных распространителей оказываются дзэнские монахи. Но причина в данном случае была прямо противоположной. Японские последователи дзэн не только не испытывали никаких гонений, но и находились в большом фаворе у пришедшей к власти воинской элиты. И именно это обстоятельство побудило буддийских священнослужителей обратить внимание на учение Конфуция и его последователей. Выступая в роли советников и консультантов светской власти, они ясно ощутили слабость буддизма в сфере социально-политической. Как и в Китае, буддизм был дополнен конфуцианством, что японцам было сделать легко, — идейная база была уже разработана и импортирована с материка.
Следующий век вместе с ростом национального самосознания приносит и первое решающее местное нововведение — место даосизма в изначальной триаде прочно занимает синто. Почти сразу оно начинает толковаться и в качестве основного элемента этой триады, причем пальма первенства в таком истолковании опять-таки принадлежала буддистам. Главным адвокатом новой теории становится монах школы Тэндай по имени Дзихэн (точные годы жизни неизвестны), который, принадлежа к древнему известнейшему роду синтоистских священнослужителей Урабэ-Ёсида, как бы сам и олицетворял этот синтез. Дзихэн облачил свои идеи в ставшую знаменитой формулу, утверждавшую, что в едином древе японской религиозности синто — это корни, конфуцианство — ствол и ветви, а буддизм — плоды и цветы. Впоследствии этот образ будет подхвачен в том или ином виде почти всеми видными синтоистскими мыслителями, в том числе его знаменитым родственником Ёсида Канэтомо, основателем Ёсида синто. Правда, впоследствии особо рьяные попытались сначала сорвать с этого единого древа цветы и плоды, а потом вообще ствол с ветками обрубить. Однако этого не получилось — не могут корни существовать сами по себе, даже если это «корни солнца»!
Можно утверждать, что в формуле Дзихэна интуитивно верно уловлено распределение взаимодополняющих ролей, которые играли эти три религии-учения в традиционном японском социуме. Делая скидку на неизбежное в таких случаях упрощение, можно говорить о том, что синто определяло традиционное бытие человека прежде всего как члена местной общины, конфуцианство регулировало поведение его как субъекта социально-политических отношений всего социума в целом, тогда как буддизм апеллировал к человеку как личности, предлагая ему путь индивидуального спасения и усовершенствования, не обусловленного ни его традиционными узами, ни положением в общественной иерархии. И если важность роли последних двух учений в современной Японии в определенной мере поколеблена или даже претерпела коренные изменения (но отнюдь не сошла на нет!), то синто продолжает оставаться незыблемой духовной основой японской цивилизации, являясь одновременно и ядром традиционного религиозного синтеза/синкретизма/симбиоза. Эту особенность синто прекрасно чувствовал знаменитый ученый-аграрий, практик и мыслитель Ниномия Сонтоку (1787–1856), который в предвоенной Японии почитался образцом добродетели, а его скульптурное изображение с вязанкой дров за плечами и книгой в руке стояло почти перед каждой школой. Его словами я и хочу завершить эту книгу:
«Синто — это путь, составляющий основу страны, конфуцианство — это путь управления страной, а буддизм — это путь властвования над своим сердцем и разумом. Оставив в стороне мудрствование ради простой истины, я попытался просто выявить суть этих учений. Под сутью я разумею их важность для людей. Выбирая важное и отбрасывая второстепенное, я пришел к лучшему для людей учению, кое называю „добродетелью деятельного возблагодарения", а также „излечивающей единовкусной пилюлей синто, конфуцианства и буддизма"».
Его ученик Кимигаса Хэдаю спросил о пропорциях состава этой «пилюли». Ниномия отвечал: «Одна ложка синто и по пол-ложки конфуцианства и буддизма».
Тогда кто-то нарисовал круг, половину которого обозначил как синто, а оставшиеся две четверти как конфуцианство и буддизм и спросил: «Вы так себе это представляете?» Ниномия улыбнулся: «Такого лекарства не найти нигде. В настоящей пилюле все составляющие тщательно смешиваются до неотличимости, иначе она будет обладать плохим вкусом во рту, да и в животе станет дурно».
Рекомендуемая литература
Кодзики. Свиток 1-й. Мифы / Пер. Е. М. Пинус; Свитки2-йи3-й /Пер. со старояп. и коммент. Л. М.Ермаковой и А. Н. Мещерякова. СПб., 1994.
Нихон сёки / Пер. со старояп. и коммент. Л. М.Ермаковой и А. Н. Мещерякова. Т. 1–2.СПб., 1997.
Норито. Сэмме / Пер., исслед. и коммент. Л. М.Ермаковой. М., 1991.
Древние фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А.Попова. М., 1969.
Синто — путь японских богов. В 2 т. СПб., 2002. Светлов Г. Е. Путь богов. М., 1985.
Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм (проблемы синкретизма). М., 1987.
Маркаръян СБ., Э.В.Молодякова. Праздники в Японии: Обычаи, обряды, социальные функции. М., 1990.
А. А. Накорчевский
СИНТО
научно-популярноеиздание
Редактор — Т. Г. Бугакова
Технический редактор — Т.Д. Раткевич
Корректор — А. А. Борисенкова
Верстка — А. Р. Вальский
Подписано в печать 29.05.2003.
Формат издания 76х 1001 /32. Печать офсетная.
Гарнитура «Петербург». Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 18,33.
Изд. № 474. Заказ № 1736.
Издательство «Петербургское Востоковедение»
191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: