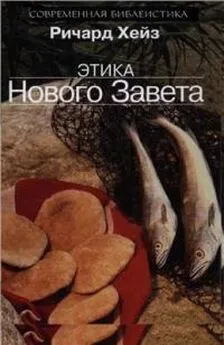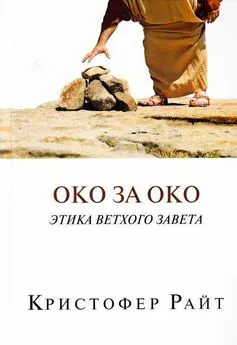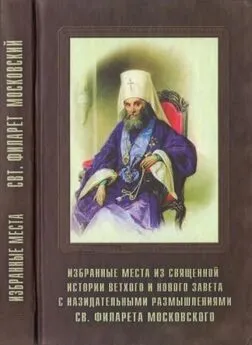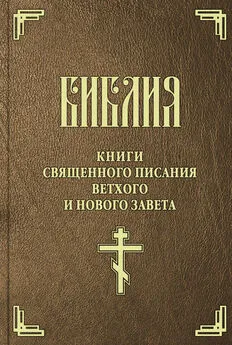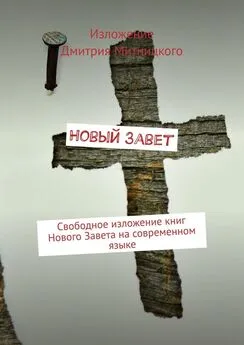Ричард Хейз - Этика Нового Завета
- Название:Этика Нового Завета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-89647-101-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Хейз - Этика Нового Завета краткое содержание
Этика Нового Завета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[24]
См. обсуждение отрывка в главе 3.
[25]
Можно было бы попробовать аргументировать центральное место любви в Евангелии от Марка следующим способом. Сначала мы уделяем особое внимание отрывкам, где Иисус сострадает толпе (6:34; 8:2) или любит богача, спрашивающего, как стяжать вечную жизнь (10:21). Потом берем эти отрывки как отражение общего отношения Иисуса к народу. Потом делаем вывод: следовать за Иисусом, значит, подражать Его любви к людям... Однако не все так гладко. Во-первых, Марк, в отличие от Иоанна, не призывает читателей подражать Иисусу в любви. Во-вторых, если считать сострадательность Иисуса примером, то как быть с отрывками, где он выказывает нетерпимость (7:27), нетерпеливость (8:17-21; 9:19) и гнев (11:12-17; 1:41 [принимая orgistheis («разгневавшись») в качестве первоначального чтения; см. Lane 1974 , 84 п.141])? Марковский Иисус - не столько любящий, сколько властный, мрачный и таинственный. У Марка исцеления, экзорцизмы и другие чудеса - не столько знаки любви, сколько знаки силы начинающегося Царства Божьего.
[26]
Hauerwas 1981b, 124.
[27]
Опять уместно привести слова Хауэрваса: «Евангельская этика - не этика любви, а этика верности этому человеку [Иисусу], как Он связал нашу судьбу со своей судьбой, как Он делает историю нашей жизни своей историей. Как этика любви Евангелия были бы этикой в нашем распоряжении: мы бы заполняли контекст любви нашими желаниями» (Hauerwas 1981b, 115).
[28]
Rensberger 1988; cf. Cassidy 1992.
[29]
Ср. анализ освобождения как описательной категории при прочтении Исхода в Levenson 1993, 127-159.
[30]
Аналогичным образом, справедливость постигается через образ общины. Иными словами, в новозаветной этике справедливость ( dikaiosyne ) — это своего рода имя повествования о Завете между Богом и Его народом. Подробнее см. в Hays 1992.
[1]
Дэвид Келси дает образцовое описание различных способов, которыми богословы подкрепляют свои утверждения ссылками на Писание (Kelsey 1975). Я в значительной мере использую его идеи, но в данном исследовании меня интересует более конкретный вопрос: использование Нового Завета в христианской этике.
[2]
Подробнее об использовании Писания более широким кругом специалистов по богословской этике см. в Siker (готовится к изданию). Мое решение включить в рассмотрение труды Барта, Йодера и Хауэрваса отчасти вызвано стремлением подробнее изучить конкретную группу ученых: в использовании Писания этими тремя мыслителями есть большое сходство. Поскольку все они, как и я, отводят Писанию конституирующую роль в христианской этике, я счел полезным прояснить свою позицию, заострив внимание на различиях между ними - различиях, на мой взгляд, немаловажных.
[3]
Здесь я следую Джеймсу Густафсону (Gustafson 1970), хотя несколько модифицировал категории.
[4]
См. работу Berger and Luckmann 1966, а также ее использование в исследовании христианской этики в Meeks 1986b; 1993.
[5]
Однако см. Verhey 1984, 176-177, который исключает апелляции к Новому Завету на уровне «нравственных правил».
[6]
Эти четыре источника богословского авторитета соответствуют «уэслиан-скому четырехугольнику», описанному Альбертом Аутлером (Albert Outler), ныне очень влиятельному в протестантской мысли. Представления Аутле-ра об этих категориях см. Albert С. Outler The Wesleyan Quadrilateral - In John Wesley: Langford 1991, 75-88. Исторический анализ атрибуции Аутлером этих категорий самому Уэсли см. Ted A Campbell The Wesleyan Quadrilateral': The Story of a Modern Methodist Myth: Langford 1991, 154-161. Англиканское богословие не выделяет «опыт» в отдельную категорию и постулирует три авторитета: Писание, предание (традиция) и разум. В сущности, такая классификация рассматривает современный религиозный опыт как часть данных, которые оценивает разум. Это работоспособная схема, но в эвристическом плане мне кажется более целесообразным считать опыт отдельной категорией, проводя грань между научными и философскими изысканиями, с одной стороны, и свидетельствами об интуитивном и духовном опыте - с другой.
[7]
Hauerwas 1981а, 64.
[8]
Например, как отмечает Макинтайр, «нормы рационального оправдания» воплощены в конкретных традициях и вырастают из них (Maclntyre 1988, 7). Просвещение обещало дать людям нормы разума, которые «не станет отрицать ни один разумный человек» и которые потому «независимы от социальной и культурной специфики», но этот проект провалился (с. 6); универсального разума нет, ибо разум привязан к традиции и истории.
[9]
Katherine Hankey I Love to Tell the Story: The United Methodist Hymnal (Nashville: United Methodist Publishing House, 1989), 156. (Первоначально опубликовано в 1868 году.)
[10]
См. обсуждение этих понятий во Введении.
[1]
См., например. Fox 1985; R.M. Brown 1986; Harries 1986; Kellerman 1987; Neuhaus 1989; Rasmussen 1989; Stone 1992; C.C. Brown 1992; Clark 1994; Fackre 1994; Lovin 1995; McCann 1995. В своем дальнейшем обсуждении нибуровской герменевтики я отчасти опираюсь на идеи Пинь-Чень Ло (Ping-Cheung Lo), моего бывшего ассистента в Йельском университете, который обратил мое внимание на некоторые темы и тексты Нибура, относящиеся к предмету данного исследования.
[2]
Niebuhr 1979 [1935], 22-38, 62-83.
[3]
Поскольку задача данного анализа - рассмотреть выборочные случаи использования Нового Завета в этике, у нас нет необходимости описывать обращение Нибура к Новому Завету во всех его сочинениях. Конечно, более полный охват нибуровских текстов позволил бы вскрыть ряд акцентов и нюансов, которые мы не находим в его важных ранних работах. Однако для целей нашего исследования нам достаточно лишь кратко посмотреть, как Нибур апеллирует к Новому Завету именно в этих своих трудах. Мы ведь не обзор пишем нибуровского наследия, а пытаемся прояснить возможные герменевтические стратегии.
[4]
См., например, Niebuhr 1932, 263.
[5]
Niebuhr 1979 [1935], 22.
Цитаты из «Опыта интерпретации христианской этики» даны в переводе В.М. Ошерова, а цитаты из «Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма?» - в переводе О.В. Боровой. - Прим. пер.
[6]
Niebuhr 1979 [1935], 22.
[7]
Niebuhr 1979 [1935]. 23-24, 25.
[8]
Niebuhr 1979 [1935], 27.
[9]
Niebuhr 1979 [1935], 32.
[10]
Niebuhr 1940, 10.
[11]
Niebuhr 1940, 29-30.
[12]
Niebuhr 1940, 73
[13]
Niebuhr 1940, 28.
[14]
Niebuhr 1932, 263.
[15]
Niebuhr 1979 [1935], 23-24.
[16]
Niebuhr 1979 [1935], 91. По-видимому, здесь Нибур находится под влиянием той традиции в новозаветной библеистике, на которую повлиял Дибелиус. См. выше раздел 1.1.
[17]
В других работах Нибур решительно ставит Иисуса над историческими и политическими обстоятельствами. Он пишет: «Сколь жалки и тщетны попытки некоторых христианских богословов (считающих нужным включиться в мир относительной политической этики...) оправдать свои действия ссылками на то, что Иисус тоже вступал в этот мир относительной этики; что Он выгнал менял из Храма с помощью бичей; или что Он «не мир пришел принести, но меч»; или что Он велел ученикам продать одежду и купить меч» (1940, 8-9). Почему такие попытки тщетны, Нибур не объясняет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: