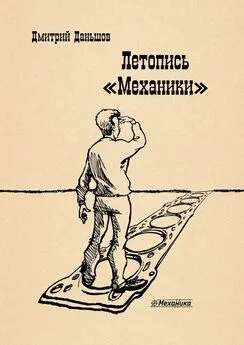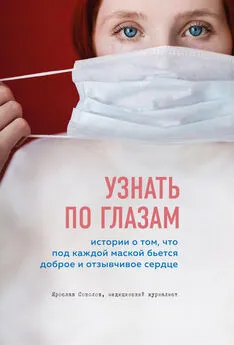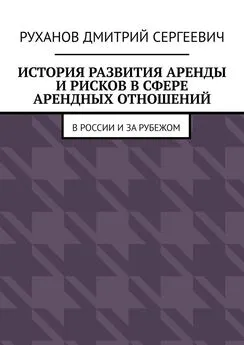Ярослав Пеликан - Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства (600-1700)
- Название:Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства (600-1700)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Духовная библиотека
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88060-180-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослав Пеликан - Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства (600-1700) краткое содержание
Настоящий том — второй — том исследования Ярослава Пеликана посвящен восточно-христианской традиции. В нем автор прослеживает развитие вероучения на византийском, сирийском и древнерусском материале, охватывая период с VII века вплоть до конца XVII века. Особое внимание уделяется сопоставлению процессов, происходивших на христианском Востоке и на христианском Западе, а также отношению православных богословов к вероучительным представлениями других религий.
Эта книга адресована не только тем, кто изучает историю Церкви и богословия, но также философам, религиоведам и широкому кругу специалистов-гуманитариев.
Настоящее издание русского перевода пятитомного исследования Ярослава Пеликана «Христианская традиция: История развития вероучения» (1971–1989) осуществлено в рамках совместного научно-издательского проекта «Христианское богословие. XX век» Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви и Культурного центра «Духовная библиотека».
Ярослав Пеликан — выдающийся современный знаток христианства разных эпох. Он глубоко изучил древнее святоотеческое наследие Востока и Запада и исследовал его сложные отношения с классической мыслью и культурой. В то же время предметом его научного интереса были и великие теологические синтезы Средневековья, а также эволюция христианской доктрины в период Реформации и позднее вплоть до XX столетия.
Особый вклад ученого состояит в том, что он смог донести до западного читателя сложное и богатое наследие восточно-христианской традиции, все еще недостаточно хорошо известной за пределами православных церквей. В этом ему помогли русские богословы как дореволюционной эпохи, так и работавшие в эмиграции, труды которых он, знаток многих языков, в том числе славянских, читал в оригинале.
Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства (600-1700) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе эти боговдохновенные и святые Отцы кафолической Церкви — восточной и западной — являли собой образец традиционного вероучения и мерило христианского православия. Когда Пирр — противник Максима — утверждал, что речения отцов были "законом и правилом церкви", Максиму оставалось только согласиться, заявляя, что "в этом, как и во всем, мы следуем святым Отцам" [171] Max.Pyrr. (PG 91:296-97)
. Обращаясь к своим противникам, он возвестил: "Пусть они сначала докажут это, основываясь на определениях отцов!… И если это невозможно, тогда пусть оставят свои мнения и присоединятся к нам, вместе с нами сообразуясь с богодухновенными отцами кафолической церкви и пятью вселенскими Соборами" [172] Max.Opusc.9 (PG 91:128)
. Определить православное учение кафолической Церкви значило держаться того, что передали Отцы [173] Max.Opusc.16 (PG 91:209); Max.Schol.E.h.1.3 (PG 4:117)
. Мудрый православный наставник в церковном учении подобен маяку, надежно освещающему темные тайны, незримые для многих [174] Max.Qu.Thal.63 (PG 90:673); Niceph.Antirr.3.41. (PG 100:460)
; этим светом является "познание и сила отеческих речений и догматов" [175] Max.Opusc.7 (PG 91:72)
. Наставляя в аскетическом делании, Максим опирается не на свои соображения, но на творения Отцов, собранные им для назидания братьев [176] Max.Carit.pr. (PG 90:960)
. Оставляя "путь святых отцов", аскет оскудевает в любом духовном делании. "Будем же, — говорит Максим, — беречь великое и первозначное лекарство нашего спасения. (Я разумею прекрасное наследие веры). Будем душою и устами твердо исповедовать его, как учили нас Отцы" [177] Max.Ep.12 (PG 91:465)
. В другом месте от так подытоживает свои взгляды: "Мы не измысливаем новых формул, в чем нас обвиняют наши противники, но исповедуем сказанное отцами. Равным образом мы не выдумываем слов сообразно нашим воззрениям, ибо это дерзновенное занятие, дело и измышление помраченного еретического ума. Но то, что осмыслено и изложено святыми, мы с почтением приводим как наше мерило" [178] Max.Opusc.19 (PG 91:224-25)
.
Когда в любом споре обе стороны признавали авторитет Писания, было недостаточно на него ссылаться, и равным образом недостаточно было просто возвещать, что ты придерживаешься православного предания отцов (в их истолковании веры на основе Писания), когда и православные, и еретики одинаково признавали его. В увещевании "Будем же с почтением придерживаться исповедания Отцов" [179] Max.Opusc.7 (PG 91:81)
слово "исповедание" употреблено в единственном числе, тогда как "Отцы" — во множественном, и это дает основание предположить, что в каком-то предыдущем споре, а также в том, который еще не возник (хотя в некоторых случаях уже напрашивался), отцы быстро приходили к единомыслию. Однако если спор разгорался, наличие такого единомыслия становилось сомнительным [180] Max.Ambig.5 (PG 91:1056-60)
. В принципе каждый соглашался, что "святые отцы велегласно… все и повсюду исповедуют и неколебимо веруют как подобает православным" в догматы троичности и личность Богочеловека [181] Max.Opusc.7 (PG 91:73)
. Однако когда обнаруживалось, что тот или другой говорил так, что (только после его кончины) возникало подозрение в его вероучительной чистоте, сказанное надо было понимать "в несобственном и неточном смысле" (katahrestikos) [182] Max.Pyrr. (PG 91:292)
. Трудно, невозможно было помыслить, что между Афанасием и Григорием Богословом может быть какое-то разномыслие [183] Max.Ambig.13 (PG 91:1208)
. Та же самая формула ("Избави Бог!") приводилась и в ответ на риторический вопрос, гласивший: "Может ли святой Дионисий противоречить самому себе?" [184] Max.Schol.D.n.5.8 (PG 4:328)
Если казалось, что такой Отец Церкви, как Григорий Нисский, единомыслен с таким еретиком, как Ориген [185] См.т.1-й, стр.151–152 оригинала.
, и тоже считает, что, в конце концов, спасутся все, надо было доказать, что это неверно [186] Max.Qu.dub.13 (PG 91:796)
. Если складывалось впечатление, что два отрывка из Григория Богослова противоречат друг другу, более тщательное исследование должно было показать "их подлинную гармонию" [187] Max.Ambig.1 (PG 91:1036)
.
Таким образом, если казалось, что два речения, принадлежащие двум различным отцам, предполагают нечто различное, их не надо было истолковывать как противоречащие. Одно и то же слово могло использоваться в различных значениях, и надо было это учитывать. Надо было показать, что Отцы "не расходились друг с другом, ни с истиной", но пребывали в согласии с "вселенской и апостольской Божией церковью" и с "правильной верой". Искавшие у Отцов противоречий или ошибок были "как воры" [188] Max.Opusc.7 (PG 91:88)
. "Именно consensus patrum /согласие Отцов/ обладал авторитетом и властью, а не их личные мнения и взгляды, хотя даже те нельзя было опрометчиво отбрасывать. Этот consensus представлял собой нечто гораздо большее, нежели эмпирическое соглашение отдельных людей. В истинном и достоверном consensus'е отражался разум Кафолической Вселенской Церкви — to ekklesiastikon fronema" [189] Florovsky (1972) 1:103
. Подытоживая это представление об отчем согласии, патриарх иерусалимский Софроний, современник Максима, писал так: "Апостольское древнее предание главенствует в святых церквах по всему миру, и посему введенные в чиноначалие во всем, что они думают и во что верят, честно ссылаются на тех, кто предержал его до них. Ибо… все их поприще было бы всуе, если бы вера в чем-то претерпела поношение [190] Soph.Ep.syn. (PG 87:3149-52)
. Формула Софрония ("апостольское древнее предание") не означала, что все "древнее" непременно является "апостольским". Любой православный богослов знал, что иногда "древность равнозначна безрассудству" [191] Max.Schol.D.n.6.2 (PG 4:337)
. Даже Ириней заблуждался, уча о тысячелетнем царстве [192] Max.Schol.E.h.7.1 (PG 4:176)
. Однако если все древнее не было апостольским и православным, все православное должно было быть апостольским и посему древним. По словам Феодора Студита истинное учение — это "превосходство апостолов, основание отцов, ключи догматов, мерило православия", и поэтому всякий, кто противоречит ему — будь то сам ангел [193] Гал.1:18
— должнен быть отлучен и анафематствован [194] Thdr.Stud.Ref.28 (PG 99:469)
. Однако и тот, кого Феодор считал вестником антихриста, — император
Константин 5-й [195] Thdr.Stud.Ep.2.15 (PG 99:1161)
— внешне не противоречил ему, когда говорил, что держится "апостольских и отчих поучений" и следует "святым Соборам, бывшим до него" [196] ap.Thdr.Stud.Ref.18 (PG 99:465)
. Другой противник иконоборства утверждал, говоря: "Я могу рассказать вам и о другом, чего Христос не говорил. Но что с того? Как мы восприняли от святых Отцов, так и верим, ибо они научились тому от Бога") [197] Joh.H.Const.5 (PG 95:320)
. То была непреложная истина, преподанная в Писании, исповеданная отцами, сформулированная в православных вероопределениях, "апостольское и отчее учение… устав церкви, шесть святых и вселенских соборов… и изложенные ими православные догматы.” [198] Thdr.Stud.Ref.17; 35 (PG 99:465; 473-76)
Интервал:
Закладка: