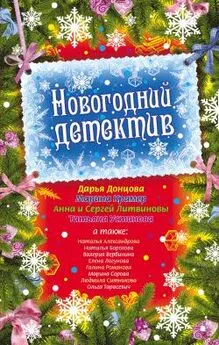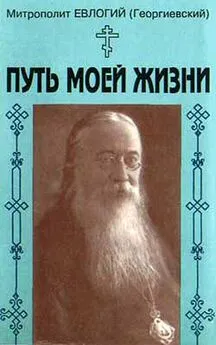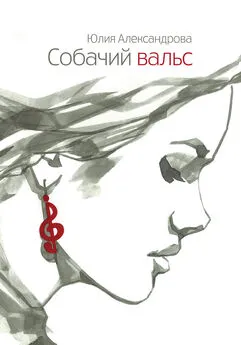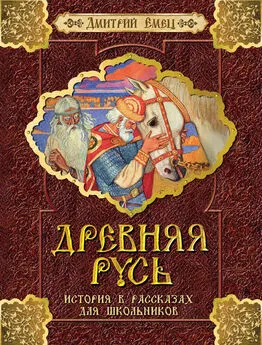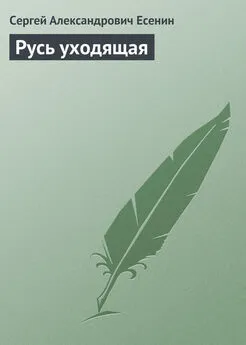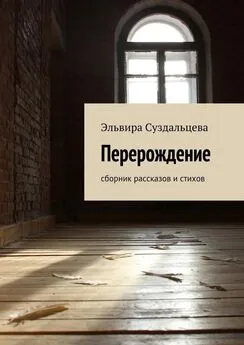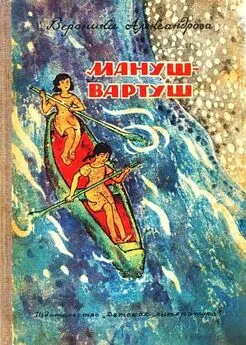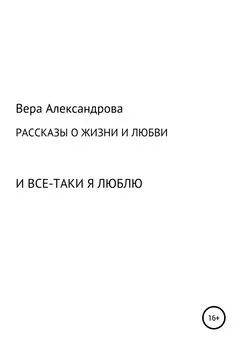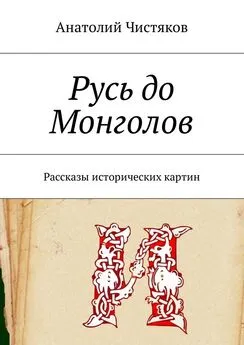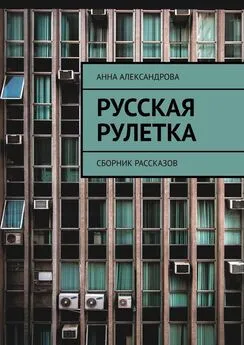Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. - Русь уходящая: Рассказы митрополита
- Название:Русь уходящая: Рассказы митрополита
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:МОСКВА
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. - Русь уходящая: Рассказы митрополита краткое содержание
Русь уходящая: Рассказы митрополита - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Был такой замечательный иерарх — архиепископ Филарет Рижский. Как–то раз он сказал: «А я правило вообще не читаю». Я, иподьякон, услышав это, чуть в обморок не упал: как же так, такой хороший архиерей и вдруг — правило не читает! А он продолжал: «Я прихожу в свою домовую церковь и сижу в кресле перед алтарем, пока не почувствую, что готов служить обедню». Сколько он так сидит — он мне не рассказывал, и что он при этом делает — тоже, — я уже и вникать перестал: получил — и успокоился. Но, во всяком случае, это внутреннее состояние — уже не необходимость, <351>а желание, и даже жажда молитвы, — как раз то, с чем священник должен подходить к литургии.
Христос в Евангелии говорит, что не надо молиться долго, — так, как делают фарисеи. Он учит обращаться к Богу проще, словами молитвы «Отче наш». Смысл этой молитвы в том, чтобы ощутить себя в единстве, в сыновстве по отношению к Богу. Мы Ему не чужие, не пришлые, мы Его дети, которым Он даст все необходимое и из которых создаст Свое Царство. Бог дал нам возможность быть его детьми. Этому и служат церковные таинства.
Когда священник встает перед престолом, это можно сравнить с началом битвы: сила на силу, сила духовности — против той злобной силы, которая идет на нас. Поэтому, если у священника на душе неспокойно, если его духовный мир нарушен, то он, можно сказать, разоружен. Умерший в схиме монах Нектарий (Овчинников), Николай Александрович, известный хирург, который в юности был алтарником у моего отца и другом моих старших братьев, — мне говорил мне, когда уже стал священником, что ему было бы легче провести полторы смены за операционным столом, чем отслужить одну литургию.
Дьявол слабее Бога, но его тактика — раздробить, размельчить внутреннее состояние человека. Поэтому если читаешь молитву — заключай ум в слова молитвы, и не отвлекайся, не блуждай мыслями. Точно так же и в миру: слушаешь лекцию — слушай, а не мечтай о вещах более приятных. Всякая небрежность, разболтанность — и в работе, и в одежде — это умаление духовной сущности. Добродетель целомудрия, которая очень ценится в Церкви — это не столько сохранение девичьей чистоты или юношеской свежести — это именно целеустремленность, целенаправленность, цельность личности. Целомудренный человек не разменивает себя на мишуру.
Какие средства для духовного восхождения? Средств много, но смысл один — преодоление «плюрализма». Жизнь наша многообразна: делаешь одно, думаешь другое, отвечаешь третье. Быть совершенным во всех сферах деятельности — удел единиц. Поэтому человек, который концентрирует свои <352>силы в одном направлении, достигает большего. Очень важна цельность, сосредоточенность внутренних усилий.
Вследствие проступка первых людей история пошла развиваться не по первоначально задуманному плану, а по боковым путям. Смысл пришествия Христа и Его искупительной жертвы — восстановление единства всей твари.
Каждая личность — это частица огромной массы. В прошлые годы я своим студентам, а потом даже и на телевидении, читал рассказ Чехова «Студент». Описывается обычный, весьма тривиальный сюжет, как студент семинарии, приехавший на пасхальные каникулы, ранней весной в сырой апрельский вечер ведет разговор у костра с бедными женщинами — о Пасхе, об Иисусе Христе, о страданиях, которые Бог принял за весь мир. И студент понимает, что вся история человечества — единая цепь, и стоит тронуть только одно звено, как отзовется вся последовательная цепочка.
В свое время, в период прохождения рубежа между дореволюционной и послереволюционной Россией был в Москве такой епископ Анастасий [151] — очень яркий проповедник. Впоследствии он, к сожалению, уклонился в обновленчество, но тогда, после революции, к нему в храм сходилось множество людей — послушать его острую речь. Однажды, обращаясь к народу, который стоял в храме, он сказал: «Вот вы критикуете монахов. А знаете, чем монах отличается от всех вас, здесь стоящих? Он хотя бы один раз — но хотел быть лучше. А вы?» Это, конечно, полемический, риторический прием, который не всегда может быть применен, но действительно: монах — это тот, кто однажды хотел стать не таким, как вся биологически существующая масса, а сосредоточить все свои силы на одной важной цели — достижении одного высшего состояния.
Высшая монашеская ценность — невозмутимый покой, но монах никогда не утвердится в ней, пока не скажет: «В мире только двое — я и Бог». Монашество — это школа созидания собственной личности. Монах уходит от мира, чтобы в тишине, в уединении созидать самого себя. Уединение человеку необходимо. В одном древнем патерике описывается, такая история. Жили три монаха. Монастырская <353>жизнь их не удовлетворяла. Они были строгими подвижниками, выполняли весь устав, но этого им было мало. И они договорились: разойтись и через некоторое время встретиться. Назначили срок и место — ту же хижину, в которой они были. Прошло время и они вновь собрались вместе. Один говорит: «Меня всегда угнетала мысль о болезнях человека. Я решил посвятить себя служению больным. Я ушел в город, ухаживал за больными. Я не боялся прокаженных, я шел к холерным и чумным, но сколько я ни работал, я не нашел в себе покоя, потому что болезни все больше и больше увеличивались». Другой говорит: «Меня угнетала мысль о человеческих ссорах, и я пошел мирить людей. Я тоже поселился в городе. Я ходил по базарной площади, мирил спорящих, я входил в семьи и мирил между собой родных, но сколько я ни мирил, я вижу, что это невозможно. Я пришел в состояние огромной внутренней усталости, я не знаю, что мне делать». А третий взял котелок, сходил к ручью, зачерпнул воду, поставил и молчит. Смотрят друзья в котелок: мутная вода, глинистая, соринки плавают. Смотрят — и тоже молчат. Через некоторое время соринки пристали к краям котелка, муть осела на дно и в зеркальной поверхности каждый увидел свое отражение. И тогда третий сказал: «А я, братья, ушел в пустыню и там увидел свое лицо».
Идея монашества зародилась очень давно, еще в библейские времена, когда человек, желавший очищения, принимал на себя обет назорейства. После сорокодневного поста назорей приходил к священнику в Иерусалимский храм, там сбривал весь волосяной покров, который сжигали — как знак полного очищения (волосы, кстати, очень накапливают информацию), и после этого приступал к своей повседневной жизни. Так поступали и апостолы, путешествующие по странам Средиземноморья, так поступали люди и уже в нашу, христианскую эру. Но это не удовлетворяло тех, кто искал особого самоуглубления. Уже во втором веке в Палестине возникли так называемые «воски», а в третьем веке в Египте зародилось собственно монашество. Оно пришло и к нам. Наш первый монах, преподобный Антоний Киево–Печерский прошел школу на Святой Горе, <354>а затем перенес эти традиции в Россию. Ярким примером такого подвижничества был Преподобный Сергий. Он ушел в дебри Радонежских лесов, чтобы в уединении преодолеть в себе те слабости, которые сопутствуют жизни человека. Так поступали и многие другие. Но удел монашества всегда трагичен тем, что человек, уходящий от мира, не остается в уединении долго. Мир идет к нему в поисках той тишины и глубины, которую тот нашел для себя. Таким образом, монашество становится уже социальным служением. Преподобный Иосиф Волоцкий, по–видимому, посмотрел более прямолинейно: если все равно от мира уйти не удастся, то, может быть, монаху идти в мир и пытаться преобразовать его? Что он и сделал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: