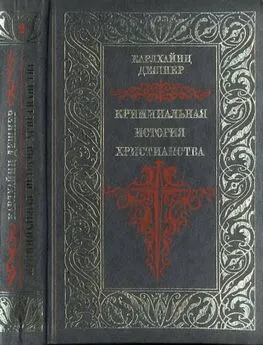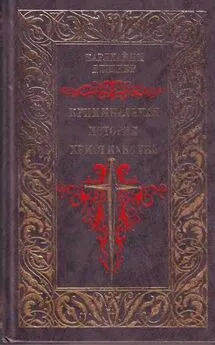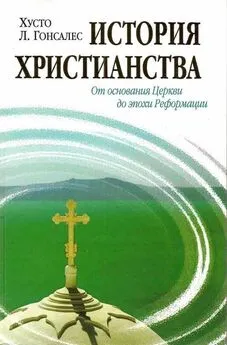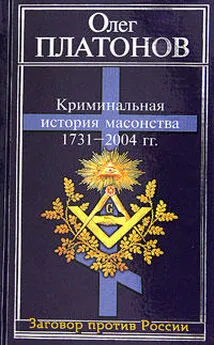КАРЛХАЙНЦ ДЕШНЕР - Криминальная история христианства. Поздняя античность. Книга 2
- Название:Криминальная история христианства. Поздняя античность. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТЕРРА
- Год:1999
- Город:Мoсква
- ISBN:5-300-02658-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
КАРЛХАЙНЦ ДЕШНЕР - Криминальная история христианства. Поздняя античность. Книга 2 краткое содержание
Это вторая книга из серии "Криминальная история христианства", в которой вышло уже 10 томов (см. Wikipedia, Karlheinz Deschner). На русском языке были изданы только две первые книги из этой серии. В книге современного немецкого ученого всесторонне исследована многовековая деятельность христианской церкви, приведены интересные, малоизвестные факты о становлении и развитии христианства, о борьбе с ересью, о том, какими методами распространялась, а иногда и насаждалась эта религия в разных странах. На протяжении всех четырех томов Карлхайнц Дешнер остается верен своему тезису: «Кто пишет мировую историю не как криминальную историю — ее сообщник». Во второй книге описана деятельность христианской церкви в период поздней античности: от 400 до 565 г.
Криминальная история христианства. Поздняя античность. Книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
* Divinus (лат.) — божественный. (Примеч. ред.)
** Sacer (лат.) — как ни странно, это слово имеет два значения: святой и проклятый. (Примеч. ред.)
*** Sanctus (лат*) — святой. (Примеч. ред.)
Спокойствие кроткого агнца невозможно вообразить у Феодоры с ее замашками хищника. Но в остальном, до самой своей смерти от рака в 548 г. (скончалась в возрасте 52 лет) она оставалась столь же помешанной на роскоши, алчной до власти и денег, столь же кровожадной, изолгавшейся и бессовестной, как и сам Юстиниан. Некоторые из подаренных ей императором имений находились в Малой Азии и Египте. Она имела обыкновение путешествовать в сопровождении четырех тысяч слуг. Она в мгновение ока швыряла на ветер колоссальные суммы. Вышедшая из самых низов, она безмерно увеличила представительские расходы. Она буквально во все совала свой нос, интриговала во всех сферах — в государственном управлении, дипломатии, церкви. Она продвигала своих фаворитов на высшие посты. Она создавала и низвергала патриархов, министров и военачальников 55.
Она вменила в обязанность раболепное преклонение перед императором и неусыпно блюла протокол, который предписывал даже первым лицам двора многочасовые ожидания э приемной. Для всех неугодных у нее наготове были темница и ссылка. Чтобы быстрее утолить свою месть и еще больше увеличить свое гигантское состояние, она даже назначала экстренные суды. Прокопий сообщает об одном близком Велизарию сенаторе, которого приковали цепью к кормушке в потайном подземелье: «До полного сходства с ослом ему недоставало лишь ослиного крика». А о Буцесе, который, по общепринятому по сей день мнению, был весьма достойным военачальником, но больше двух лет содержался в темнице в ее дворце, Прокопий пишет: «Человек, который каждый день бросал ему еду, вел себя как зверь со зверем, как немой с немым». Доходы от постоянно множившихся конфискаций не в последнюю очередь доставались Феодоре. Ее интересы обслуживал штат ее личных шпионов и филеров, а после ее кончины ими стал пользоваться император, хотя и не столь коварно 56.
Будучи женщиной, которой ничто не было столь чуждо, как изучение документов и копание в деталях, она, в отличие от Юстиниана, уделяла много времени уходу за своим телом. Прокопий, который вообще-то сообщает о ней исключительно негативные факты, рассказывает, что о своем теле она заботилась без устали. Она невероятно долго принимала ванну по утрам, и ее завтрак обилием блюд и напитков не уступал остальным трапезам. После чего она вновь отдыхала и вообще подолгу спала. «Несмотря на то что императрица во всем отличалась исключительной невоздержанностью, она полагала, что может управлять империей в те немногие часы, которые у нее оставались для этого» 57.
Свою самую главную роль Феодора сыграла, пожалуй, в январе 532 г., во время мощного восстания «Ника» («nika!»: «побеждай!» — боевой клич мятежников).
Недовольство народа привело к этому восстанию, последнему сражению народа за свою свободу. Во имя этого даже объединились цирковые партии: прасинов («зеленых») и венетов («голубых»). Первые были монофизитами, а вторые — правоверными. Уже был провозглашен другой «император» — племянник императора Анастасия Ипатий, что было сделано против его воли. «Зеленые» проявили инициативу, а «голубые» поддержали ее. Они ворвались в тюрьмы и освободили заключенных. Многие дворцы — прежде всего городской префектуры и сената — были подожжены. В огне оказались церкви, произведения искусства и аристократические кварталы. И днем, и ночью Константинополь полыхал: Огонь угрожал даже Императорскому дворцу. Святая София была разграблена. Положение казалось безвыходным. Осажденный в своей резиденции Юстиниан был готов отказаться от всего — от трона и от империи — и бежать через Босфор. Лишь Феодоре удалось удержать его ставшей знаменитой фразой: «Что до меня — так я остаюсь. Мне нравится старинная максима: пурпур — самый лучший саван».
Велизарию, подоспевшему тем временем с тремя полками ветеранов, и фавориту Феодоры, командиру лейб-гвардии Нарсесу удалось после пяти дней анархии восстановить «порядок»: «более тридцати тысяч» человек/как пишет Прокопий, были заманены в цирк, где их час за часом забивали без разбора, как стадо баранов. Подражавший греческим образцам антиохийский хронист Иоанн Малала (не исключено, что он впоследствии стал константинопольским патриархом, известным как Иоанн Схоластик) сообщает о примерно тридцати пяти тысячах. Иоанн Лид, смиренный свидетель и поклонник императора, с удовлетворением сообщает даже о пятидесяти тысячах убитых, а Захария Схоластик, епископ Митиле-ны, в прошлом монофизит, а в то время неохалкидонец, приводит цифру: восемьдесят тысяч. Эта резня еще более чудовищная, нежели прославленное Августином побоище, устроенное католиком Феодосием I в цирке Фессалоник (кн. 1, стр. 383), была, пожалуй, на совести не столько Юстиниана, сколько Феодоры. Во всяком случае, им обоим их христианство не помешало утопить восстание в море крови. Покатились головы и простолюдинов, и знатных. Лишился головы и Ипатий, которого Юстиниан намеревался помиловать. Та же участь постигла его брата Помпея. 18 патрициев (patrikioi) были сосланы, все их владения конфискованы — и еще более прекрасные соборы выросли на руинах. А Феодора, повинная в гибели огромного числа людей, возвысилась, как водится, до официальной соправительницы. Ее имя стали указывать на государственных грамотах, оно появилось над входами в казармы и даже на благодарственных досках церквей! И по сей день восточная церковь поминает ее с почтением и благодарностью 58.
Недостает только «почести алтарей» — какая несправедливость!
Поддержанный своим епископатом, Юстиниан настаивал на всеобщем единообразии веры: одна империя, один император, одна церковь — т. е. на истреблении всех некатоликов. Прокопий сообщает, что «всю Римскую империю сразу же захлестнули кровавые приговоры, беззаконные ссылки и толпы беженцев» 59.
Первыми шагами Юстиниана-тирана, начавшего действовать еще при Юстине, стали жесточайшие преследования «еретиков», прежде всего коснувшиеся сравнительно мелких сект. «Будет справедливо, — декретировали сообщники в 527 г., — лишить и мирских благ тех, кто почитает не истинного Бога». Религиозная нетерпимость повлекла за собой нетерпимость гражданскую. В неслыханно жестком законе они провозгласили необходимость «лишения еретиков всех земных благ, дабы они погибали в нищете» и привели длинный перечень ограничений и наказаний для выполнения этого благочестивого плана 60.
Борьба с монофизитами, манихеями, монтанистами, арканами и донатистами ширилась, а религиозная нетерпимость превратилась в «гражданскую добродетель» (Диль/ Diehl) 61.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: