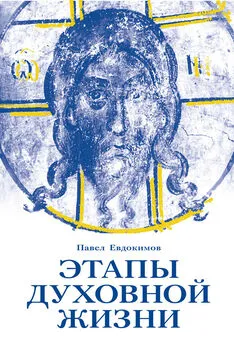Люсьен Реньё - Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века
- Название:Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия», «Палимпсест»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03096-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Люсьен Реньё - Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века краткое содержание
«Отцы–пустынники и жены непорочны…» — эти строки Пушкина посвящены им, великим христианским подвижникам IV века, монахам–анахоретам Египетской пустыни. Антоний Великий, Павел Фивейский, Макарий Египетский и Макарий Александрийский — это только самые известные имена Отцов пустыни. Что двигало этими людьми? Почему они отказывались от семьи, имущества, привычного образа жизни и уходили в необжитую пустыню? Как удалось им создать культуру, пережившую их на многие века и оказавшую громадное влияние на весь христианский мир? Книга французского исследователя, бенедиктинского монаха отца Люсьена Реньё, посвятившего почти всю свою жизнь изучению духовного наследия египетских Отцов, представляет отнюдь не только познавательный интерес, особенно для отечественного читателя. Знакомство с повседневной жизнью монахов–анахоретов, живших полторы тысячи лет назад, позволяет понять кое‑что и в тысячелетней истории России и русского монашества, истоки которого также восходят к духовному подвигу насельников Египетской пустыни.
Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хранение сердца
Но как бы ни было важно для монаха сокрушение о прошлых грехах, главное состояло в заботе о том, чтобы избежать их в настоящем. С этой целью отшельники усердно занимались тем, что сами называли «хранением сердца», то есть наблюдением за всеми мыслями, которые приходят на ум, и их различением. Антоний Великий по этому поводу говорил, что монах, ушедший в пустыню, освобождается от трех видов духовной брани — «слуха, уст и очей, но остается только одна — брань сердца» [729] А 11 (=Антоний, 11. Достопамятные сказания. С. 12). В данном случае правильное чтение kardias (сердца), а не pomeias (блуда): таков точный смысл слов Антония в большинстве греческих рукописей, а также в древних латинской и сирийской версиях. А Руссель (Porneia. Р 185–186) по каким‑то своим причинам предпочитает в этом месте перевод Ж–Кл. Ги, сделанный неосмотрительно по содержащему ошибки тексту Котельера, перепечатанному в Патрологии Миня (в русском переводе, сделанном по Патрологии, также стоит «блуд». — А Я). Но знает ли она, что писал по этому поводу отец Ириней Осер: «Ну и что же нам теперь думать о тех “критических умах”, кои тотчас набросились на эту porneia , намекая, что монахи–пустынники были подвержены нападкам обостренного libido ?» (Orientalia Christiana Periodica. XII. 1956. P. 34).
. Покидая мир, отшельник устранял от себя все, что с видимой, внешней стороны могло вовлечь его в грех. И только его душевный мир сохранял такую опасность. Поэтому внутренняя, душевная работа была для него чрезвычайно важной.
Отцы пустыни конечно же не пренебрегали исследованием своего ума в определенные моменты, утром и вечером [730] Житие Антония, гл. 55; А 560.
, или в определенных обстоятельствах, например, перед тем как выйти из кельи или прежде чем туда войти [731] А 340, А 350, А 606.
. Но в большей степени они говорили о постоянном бодрствовании, к которому принуждали себя и в келье, и за ее пределами. Отшельник жил постоянно настороже, постоянно во «внимании к самому себе» [732] А 2 (=Антоний, 2. Достопамятные сказания. С. 11).
, согласно известному выражению стоиков, которое у христиан приобрело смысл, отличный от того, что был у языческих учителей морали [733] Hausherr I. L’Hesychasme // Orientalia Christiana Periodica. 1956. XXII. P. 273–285.
. Монах бодрствует, чтобы не прогневить Бога, стараясь «сохранить всегда Господа перед очами своими» [734] A 3 (=Антоний, 3. Достопамятные сказания. С. 11).
. Это — внутреннее чувство «страха Божия» в библейском смысле слова, которое не исключает любовь к Богу, но прежде всего выражает убеждение в возможности жить, постоянно находясь перед очами Божиими. Смиренномудрие — непременный спутник страха Божия, который, по мнению аввы Пимена, необходим монаху так же, как дыхание, исходящее из уст его [735] А 623 (=Пимен, 49. Достопамятные сказания. С. 141).
. Тот же авва Пимен говорил, что страх Божий одновременно начало и конец [736] N 647.
, первый и последний шаг в монашеской жизни.
Утвердив себя в страхе Божием, отшельник внимательно наблюдал за всеми помыслами, которые неизбежно появляются в его уме. Авва Исидор замечал: «Если мы не будем иметь мыслей, то станем подобны диким зверям» [737] VP VI 4, 21 в SP, nouveau recueil. P. 206.
. А авва Моисей говорил Иоанну Кассиану: «Невозможно, чтобы дух наш не тревожился множеством мыслей, но он позволяет нам либо принимать их, либо отсекать» [738] Иоанн Кассиан. Собеседования, 1, 17.
. Одному брату, который сожалел о том, что принял помыслы, авва Пимен преподал хороший урок. Он вытащил его из кельи на сильный ветер — а хорошо известно, какие иногда бывают в пустыне ветры! — и сказал: «Раскрой пазуху и собери туда весь ветер». «Это невозможно, — сказал брат. — Хорошо, — ответил старец, — если ты не можешь этого сделать, то тем более не можешь помешать помыслам прийти к тебе, но сопротивляться им ты можешь» [739] А 602 (=Пимен, 28. Достопамятные сказания. С. 139).
.
«Труд монашеский, — как говорил другой старец, — это увидеть издалека, как приходят помыслы» [740] М 64 в SP, nouveau recueil. P. 214.
. Отшельник должен спрашивать все возникающие у него помыслы: «Вы наши или от врага? И они непременно ему откроются» [741] N 99.
. Обычно, с помощью страха Божия и бодрствования, монах обретал благодать различения [742] Eth. 13, 7; 13, 18.
, но чаще всего это происходило после длительного обучения под руководством старца, которому он эти помыслы открывал.
Отсечение лукавых помыслов
Как только помысел признан суетным или лукавым, следует сразу же отсечь его, не пускаясь с ним в переговоры. Но если он утвердился в нас, то уже невозможно прогнать его сразу [743] A 427; Иоанн Кассиан. Установления, 5, 24.
. Лукавые помыслы — как мыши, проникающие в дом: если их уничтожать одну за другой, по мере того как они там поселяются, можно быстро избавиться от неприятностей. Но если они там размножились, нужно сильно потрудиться, чтобы полностью избавиться от них [744] Евагрий. Начертание, 10 (Pbilocalie Bellefontaine 8. P. 25).
. Однако отдельные помыслы, например помысел сластолюбия, могут долго мучить монаха, иногда до девяти лет или даже больше [745] Иоанн Кассиан. Собеседования, 5, 11.
. Обычно различные помыслы следуют друг за другом и постоянно нужно обращать внимание на то, чтобы не впустить ни одного лукавого. Ошибка длиной в одно мгновение может стать фатальной. Некоторые отцы, слова которых приводят Евагрий и Иоанн Кассиан, советовали опытным ученикам впускать помыслы с тем, чтобы потом еще более интенсивно сразиться с ними, так сказать «лицом к лицу», и приобрести более глубокий духовный опыт [746] Там же, 19, 14.
. Именно так сказал однажды авва Иосиф авве Пимену. Но менее закаленным в таких «боях» тот же авва Иосиф советовал отсекать такие помыслы, как только они появились в уме [747] А 386 (=Иосиф, 3. Достопамятные сказания. С. 86).
.
Про одного брата в Райфе известно, что он был настолько бдителен, что всякий раз, когда куда‑то шел, на каждом шагу останавливался и спрашивал себя: «Ну, что, брат, где мы сейчас находимся?» И если обнаруживал, что дух его занят пением псалмов и молитвой, говорил: «Это хорошо». Но если ловил себя на том, что думает о чем‑то ином, тотчас делал над собой усилие и восклицал: «Вернись, безумец, к занятию своему!» [748] N 529
В глазах монаха–пустынника для того, чтобы подвизаться и постоянно побуждать себя к духовной брани, все способы были хороши. Один из них нашел очень изобретательный метод. Он собирал перед собой кучу камней и две корзинки, одну — слева, другую — справа. Каждый раз, когда ему приходила хорошая мысль, он клал камешек в корзинку справа, а если плохая — в корзинку слева. Когда наступал вечер, отшельник считал эти камешки, и если в левой корзинке камней было больше, чем в правой, то он лишал себя еды. А на следующий день, если ему на ум приходила худая мысль, он говорил себе: «Будь внимателен к тому, что ты делаешь, ибо тебе и сегодня придется голодать» [749] N 408.
. Такая практика вряд ли была широко распространена, и мы можем найти что‑то и менее изобретательное. Однако она свидетельствует о том особом внимании, которое проявляли к себе отшельники, стараясь сохранить свое сердце в чистоте. Святой Антоний советовал своим ученикам письменно отмечать все поступки и движения души и говорил им: «Будем уверены, что, стыдясь известности, в значительной степени освободимся от худых помыслов» [750] Житие Антония, гл. 55.
. Брат, который собирал камни в корзины, возможно, не мог ни читать, ни писать, поэтому он и изобрел свой «оригинальный метод». Любая мелочь в поступках была очень важной, поскольку Отцы добивались абсолютной чистоты сердца, чтобы посвятить его одному только Богу. Не все имели одинаковые душевные силы, и некоторые считали для себя необходимым придумать довольно странные уловки. Иногда могло показаться, что они тратят всю свою энергию на борьбу с лукавыми помыслами, но на самом деле они старались сохранить помыслы добрые. О худых и лукавых помыслах мы знаем намного больше, но это только потому, что о них Отцы говорили охотнее. О добрых же они всегда говорили более сдержанно. Вот, например, что сказал авва Пимен: «Пока котелок на огне, муха туда не сядет. Также и монах, если он пребывает в духовном делании, то враг его, дьявол, никак не может поразить его» [751] А 685 (= Пимен, 111. Достопамятные сказания. С. 150).
. Согласно другому сравнению, приведенному аввой Моисеем Иоанну Кассиану, душа подобна мельничному жернову, который всегда в движении. Нужно постоянно наполнять его зерном, иначе он будет молоть плевелы [752] Иоанн Кассиан. Собеседования, 1, 18.
. Именно поэтому так необходимо постоянно повторять наизусть «священные глаголы», что, как мы уже говорили, и занимало весь день отшельника. Тогда он имел в сердце своем мысль о Боге, «памятование о Господе», как часто говорили Отцы.
Интервал:
Закладка: