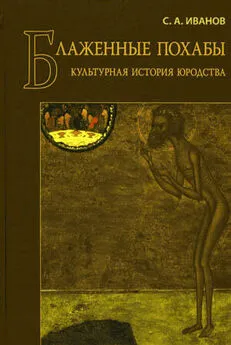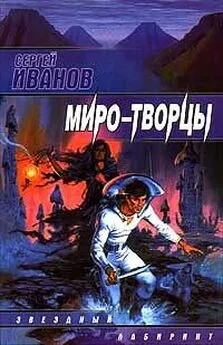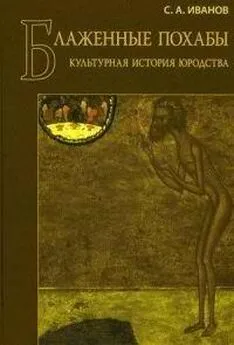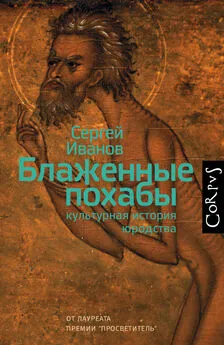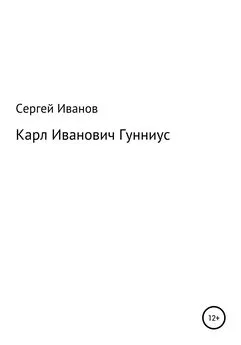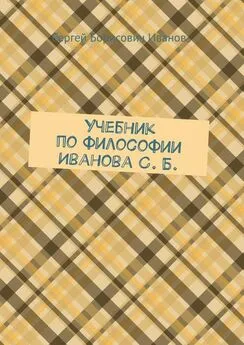Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ
- Название:БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:А. Кошелев
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0105-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ краткое содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Едва ли не самый знаменитый русский храм, что стоит на Красной площади в Москве, мало кому известен под своим официальным именем – Покрова на Рву. Зато весь мир знает другое его название – собор Василия Блаженного.
А чем, собственно, прославился этот святой? Как гласит его житие, он разгуливал голый, буянил на рынках, задирал прохожих, кидался камнями в дома набожных людей, насылал смерть, а однажды расколол камнем чудотворную икону. Разве подобное поведение типично для святых? Конечно, если они – юродивые. Недаром тех же людей на Руси называли ещё «похабами».
Самый факт, что при разговоре о древнем и весьма специфическом виде православной святости русские могут без кавычек и дополнительных пояснений употреблять слово своего современного языка, чрезвычайно показателен. Явление это укорененное, важное, – но не осмысленное культурологически.
О юродстве много писали в благочестивом ключе, но до сих пор в мировой гуманитарной науке не существовало монографических исследований, где «похабство» рассматривалось бы как феномен культурной антропологии. Данная книга – первая.
БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Католическое средневековье, вплотную подойдя к парадигме юродства, тем не менее не создало её в тех параметрах, в которых это удалось средневековью византийскому. Как правильно заметил Жан-Мари Фритц, «дурак Божий так никогда и не сумел акклиматизироваться под небом Запада: тот его не принял» (le fou de Dieu n'a jamais pu s'acclimater sous le ciel de lOccident: il n'a pas ete accepte) [DCCCXXXII] [DCCCXXXII] Fritz J.-M. Le discours, p. 314. О попытках найти аналоги юродству на современном Западе ср.: Leonhardl-AumullerJ. Narren um Christi willen – Eine Studie zu Tradition und Typologie des «Narren in Christo» und dessen Auspragung bei Gerhard Haupt-mann// Kulturgeschichtliche Forschungen. Bd. 18. 1993, S. 45-54.
.
Для настоящего юродивого европейский святой, с одной стороны, чересчур психологичен, а с другой – слишком социален.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда Пушкин попросил друзей прислать биографию «Большого Колпака» для работы над «Борисом Годуновым», Петр Вяземский написал ему 6 сентября 1825 г.: «Карамзин говорит, что ты в колпаке немного найдёшь пищи, то есть, вшей. Все юродивые похожи!» [DCCCXXXIII] [DCCCXXXIII] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 13. М.;Л., 1937, с. 224.
Допустим, ироническое замечание насчёт вшей принадлежит зубоскалу Вяземскому – но прав ли был Карамзин? В самом ли деле все юродивые похожи?
Безумный человек, предоставленный самому себе, действительно ведёт себя более или менее одинаково в любом обществе, ибо он – в предельном случае – «вне-культурен». Однако культура, в чьей смыслопорождающей толще вынашивается понятие юродства, подмечает и наделяет смыслом лишь те черты безумного поведения, которые ей концептуально подходят, и игнорирует все другие. Каждое общество рекрутирует себе в прокуроры такого сумасшедшего, который отвечает именно его неосознанным потребностям, именно его невербализуемому чувству вины. Византийская культура была сильно непохожа на древнерусскую, и, соответственно, различаются их типы юродства.
Сравним для примера двух корифеев – Симеона Эмесского и Василия Блаженного. Уровень юродской агрессии у обоих одинаков, и именно в силу этой причины особенно бросаются в глаза различия между византийским и русским способами юродствования. Во-первых, Симеон симулирует половую активность, а Василий никогда этого себе не позволяет. Почему? В Византии сексуальная сфера, несмотря на все проклятия христианских моралистов, сохраняла остатки античной свободы [141] [141] Дело не в пережитках язычества (см.: KazhdanA., Constable G. People and Power in Byzantium. Washington, 1982, p. 60), a именно в цивилизационных нормах.
; публичные дома оставались в христианской Империи законными учреждениями (бордели в Константинополе, согласно городскому преданию, открылись по приказу святого Константина Великого); власть, хоть и впадала периодами в ригористический раж, всё-таки молчаливо исходила из того, что христианские принципы не должны воплощаться в реальную жизнь буквально. Вот эта точка компромисса и была безошибочно отыскана «юродским чутьем» культуры: сексуальные эскапады византийского юродивого «прочитывались» его современниками как доведение до абсурда и тем самым как демонстрация абсурдности терпимого подхода к сексу. На Руси же ситуация была иной: с одной стороны, жизнь боярского терема, регулируемая «Домостроем», не признавала никакой сексуальной свободы, а государство не дозволяло проституции; с другой же стороны, низовая жизнь вообще не была скована ограничениями. Например, Симеон Эмесский, окажись он в Москве до середины XVI в., не смог бы отправиться в женскую баню, поскольку все бани были общими (в XVIII в., с ростом общественной стыдливости, русским «похабам» также стали приписывать банные подвиги, ср.: РНБ. QI, № 574, л. 11). Он никого не смутил бы непристойными жестами, потому что принятая среди московитов бытовая раскованность вызывала изумление у иностранных путешественников. Провокация «похаба» здесь никого бы не спровоцировала.
Во-вторых, Симеон смущает окружающих публичной дефекацией – за Василием ничего подобного не водится. Почему? В ранневизантийских городах имелись общественные уборные, и отказ от пользования ими выглядел пощечиной благопристойности, тогда как в Москве ещё и в начале XVIII в. нужду справляли все и повсюду, так что юродивый не имел шансов особенно отличиться на общем фоне.
В-третьих, Симеон нарушал ход литургии и правила поста – Василию же агиограф такого кощунства не приписывает. В чём тут дело? В недостаточной ли смелости той коллективной фантазии, которая «создает» юродский поступок? Но ведь эта самая фантазия отваживается на куда более дерзкое мечтание – обличить царя. А может быть, разгадка в том и кроется, что светская власть на Руси в куда большей мере, чем в Византии, узурпировала сакральные функции? Юродивый везде обличает условный характер тех институций, которые, хоть и призваны обеспечить божественный порядок, но сами при этом неизбежно остаются земными: в Византии это в первую очередь Церковь, на Руси – Царство.
Раз уж мы упомянули о той сфере, где Василий превосходит своих византийских предшественников в юродстве, укажем и на другие его «преимущества»: во-первых, московский «похаб» всегда ходит совершенно голый (таким его изображают и на иконах), а эмесский – лишь иногда раздевается. Нагота в такой холодной стране, как Русь, являлась символом не столько сексуальной провокативности, сколько добровольного мученичества. Во-вторых, Василий разбивает икону, признав её бесовской, а Андрей Царьградский, даже убедившись в бесовском характере иконы, не трогает её. Видимо, сила агрессии была пропорциональна силе веры, а на Руси иконный фетишизм далеко превосходил все византийские прецеденты. В-третьих и в-главных, Василий вызывал священный ужас, тогда как Симеон и Андрей – лишь презрение. Тут уж ничего нельзя было поделать: юродское инкогнито, будучи единожны нарушено, невозможно возобновить, и потому «похаб» не мог казаться просто безумцем, а являл собою ходячую Тайну.
Русский юродивый – фигура зловещая. Приведём, пожалуй, самый потрясающий пример из жития Прокопия Вятского:
В некоее время заутра рано прииде блаженный Прокопий в дом посацкого человека Данила Калсина пореклу Руского , и ляже на печи . Данилу же и детем его в то время бывшим у заутренаго пения , детищу же малу сущу спящу на ложи своём , яко же довлеет младенцем в колыбели , Прокопий же взем сего детища и порази его с печи долу на помостие , и в том же часе детище умре . И прииде от церкви той Даниил и дети его и видяще своего детища мертва и скутавше его в погребальные ризы , ничтоже блаженному зла сотвори , зане видяше его мужа свята . И призваша же священников и диаконы и начаша над детищем по обычаю пети погребальная . Блаженный же Прокопий видя сие и сниде с печи и нача священников с причтом ис тоя храмины всех вон поревати , и посем взя младенца из гроба , младенец же по обычаю нача кричати и верескати [DCCCXXXIV] [DCCCXXXIV] Иванов С. А. Житие Прокопия Вятского. Editio Princeps // Florilegium. К 60-летию Б. Н. Флори. М., 2000, с. 80-81.
.
Интервал:
Закладка: