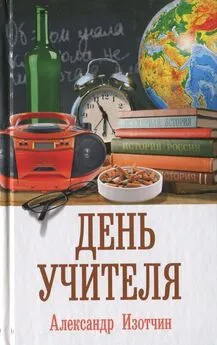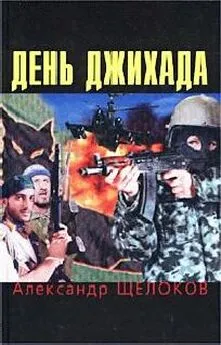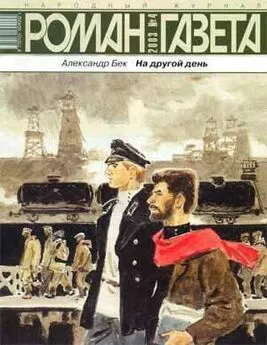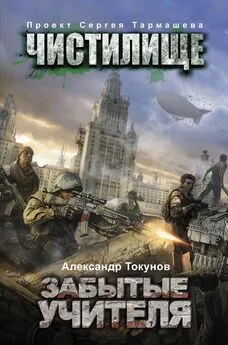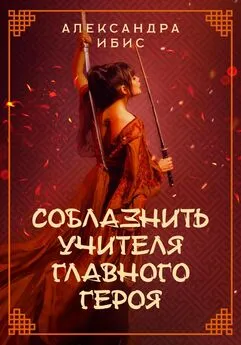Александр Изотчин - День учителя
- Название:День учителя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-094539-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Изотчин - День учителя краткое содержание
Главный герой книги — Андрей Мирошкин дитя лихих 90-х, неудачливый любовник, несостоявшийся ученый, учитель истории. Жизнь ставит перед ним непростые для решения задачи: как выбиться из провинциального городка в Москву? Как получше устроиться в жизни? Послекризисная Москва 1998 года неласкова к недотепам-провинциалам. Чем придется пожертвовать герою ради своих амбиций? И стоит ли цель такой жертвы?
День учителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я несколько раз Просила Т. и тебя познакомить меня с ее родителями, но она этого не хотела, да и ты-то меня отговаривал от этого! Наконец 3/I1I состоялось наше знакомство. Оно не было утешительным. Мать — уборщица, отец — плотник! Но Т. сообщила, что вы уже подали заявление! Когда? — Оказывается, именно в тот же день! За столом говорила больше Т., они больше молчали. Мне показалось странным: жить 12 лет в Москве и так ворочать: ехай, едуть и т. д. Но, думаю, домохозяйка, все время на кухне, муж тоже не очень развит, немудрено. Как-то объясняла. А ты был как в угаре! Ты ничего не видел и не слышал! Я это понимала. Я подумала: в конце-концов, когда будут жить самостоятельно, она поймет, что надо учиться, мы поможем, и все будет хорошо. Но ты почувствовал у меня холодок и однажды сказал, что я сразу уже плохо настроена. На что я тебе ответила вопросом: «А вдруг Т. не захочет учиться?» Помнишь свою реакцию? «Заставлю!» — сказал ты. Я ведь неспроста задала тебе этот вопрос. Я чувствовала, хотя и не могла понять: как это не хотеть учиться?
Я не знала почему, не понимала, но я не хотела 20/IY! Поэтому, когда 18/IV ты пришел почему-то расстроенный и сказал мне, что 20/IV ничего не будет, я испугалась, с одной стороны, и очень обрадовалась, с другой! Сердце трепетало от радости! Но было непонятно, что с тобой. И было не по себе, ведь все были уже приглашены. Я не спала всю ночь. Я металась по городу, не зная, что же делать. Я тебе сказала, делай как знаешь. Сама подумала, что скажем, будто я заболела, как-нибудь объясним. На следующий день приехал Папа. Конечно, я ему все рассказала. И мы с тревогой и тайной надеждой ждали вечера: ты придешь один или с ней. Ты пришел с ней. Папа очень расстроился, познакомившись. А после знакомства с родителями еще больше. А после Дня Победы, когда нас пригласили, а теща ушла в церковь (!), появились разочарование полное и даже неприязнь. Мы не могли даже идти на квартиру, мы тихо ходили по улицам города и молча плакали оба, плакали об утраченной «розовой мечте», плакали от неизвестности: что же будет дальше? А ты ничего не почувствовал… Мы понимали тебя и любовью объясняли все.
Потом ты скрыл от меня истинную причину пребывания Т. в больнице. Я ничего не знала, но мне было непонятно, как можно? В день помещения дочери в больницу тесть идет покупать зятю фотоаппарат? Теперь понятно: неизвестно, что будет с Т., и как бы ты не ушел в случае чего. Грубый шаг. Да, мы все оказались простофилями. Нас обвели…»
Этими словами заканчивалась страница, продолжения не было. Что это было — второй вариант письма, оставшийся у Ирины Алексеевны, или может быть, написав, мать так и не отправила сыну послание — кто знает? И в нынешней драме, разыгравшейся в далекой Москве, Ирина Алексеевна также винила Татьяну Кирилловну — зачем она позволяла мужу пить? Эту мысль, услышанную Андреем из-за неплотно закрытой двери, пыталась донести до внучки бабушка. Ирина Алексеевна, как и большинство провинциалов, была убеждена, что «сына испортила Москва», ведь в Термополе он и в рот не брал водки. Аргументы Ирины, резонно полагавшей, что подобного было бы странно ожидать от семнадцатилетнего юноши, каким Завьялов уехал поступать в МГИМО, не действовали… Впрочем, за исключением высоких оценок, даваемых стариками Петровичу, ничем другим термопольские Завьяловы Андрея не раздражали.
После приезда внучки Ирина Алексеевна, обычно ночевавшая в «комнате сына», переехала в большую комнату, основную обстановку которой составляли книги — огромный книжный стеллаж во всю длину большой стены был весь забит ими. Все остальное — кресло, в котором любил посидеть Петр Николаевич в своей неизменной пижаме, его диванчик с подушечками, вышитыми женой (Ирина Алексеевна теперь располагалась рядом, на раскладушке), обеденный стол, большой шкаф и телевизор, — все это как бы исчезало на фоне стены, утыканной книжными переплетами. Впрочем, многое из того, что стояло на полках, безнадежно устарело, а по большей части мало интересовало Андрея. Петр Николаевич, судя по всему, увлекался историей двадцатого века, тем, о чем в СССР выходили наиболее заидеологизированные монографии, чаще всего выпускаемые к какому-нибудь очередному юбилею. Особенно много книг было о Великой Отечественной войне. Другие периоды истории были представлены на стеллажах лишь постольку поскольку. Но все же Мирошкин наткнулся на пару работ Скрынникова о Смуте, с трепетом извлек с полки дореволюционное издание «Богдана Хмельницкого» Костомарова и, конечно, не мог не обратить внимания на последнее издание сочинений Ключевского. Все это было тут же подарено Петром Николаевичем молодому коллеге. После этого поступка старики начали казаться Мирошкину более симпатичными, и даже их ненормальная страсть к сыну стала меньше его нервировать. К этой их странности он испытывал теперь жалостливое сочувствие, сравнимое, скажем, с тем, если бы Завьяловы стали вдруг мочиться под себя — что же делать, старость — не радость!
Они и правда казались милыми в своей спокойно-размеренной стариковской жизни. Петр Николаевич совсем плохо видел, а потому последние годы не выходил из дому. Он целиком зависел от своей энергичной супруги, день которой начинался рано, с похода на рынок. Потом все вместе завтракали, далее Ирина Алексеевна читала мужу газеты, извлеченные ею по дороге из почтового ящика — «Советскую Россию» и «Завтра». Это занимало довольно много времени. Бабушка сама выбирала, что в газете донести до сведения Петра Николаевича, что-то читала монотонно, что-то выразительно, голосом выделяя отдельные фразы в тексте. При этом подбор читаемых материалов вовсе не был направлен на то, чтобы уберечь мужа от ужасов окружающей жизни. Напротив, казалось, Ирина Алексеевна выбирала что пострашнее. И, надо сказать, это вполне соответствовало настрою ее супруга. Во время чтения он замирал, весь превратившись в слух, подставлял ладонь к уху, как бы направляя поток информации, удовлетворенно кряхтел или кивал головой, молча, с пониманием — будто получал откуда-то долгожданные вести. На фоне краха, постигшего семью сына, апокалиптические картины, рисуемые газетчиками, его не пугали, напротив, если бы вдруг в прессе появился материал о неком улучшении стуации, положим, где-то далеко от Петра Николаевича, на недосягаемой ныне улице или вообще где-нибудь на другом конце страны, такое известие наверняка было бы воспринято стариком с недоверием. Впрочем, упрекнуть его в отрыве от жизни было трудно — в России царил хаос.
Газетные страсти дополняло телевидение, по которому старики на двух работавших у них каналах смотрели исключительно новости и пару-тройку сериалов, среди которых безусловным фаворитом являлась нескончаемая «Санта-Барбара». Андрей иногда представлял себе, какое причудливое видение современного мира должно было сложиться у Завьяловых из ужасов теленовостей и интриг телемыла. Мир за окном выглядел враждебным, соприкасаться с ним казалось опасным, понять его было нельзя. «Что-то есть в этом сектантское», — определил Мирошкин…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: