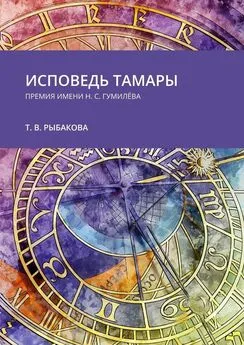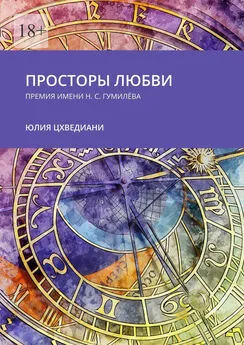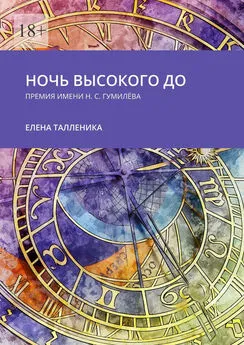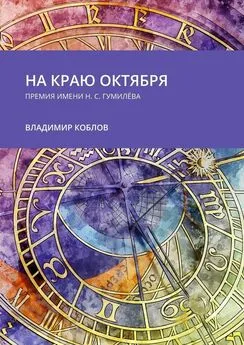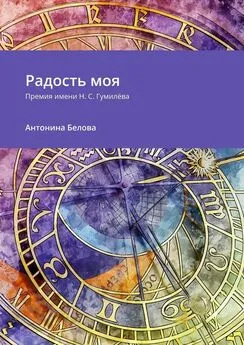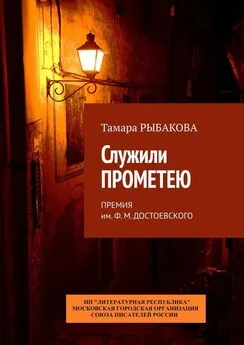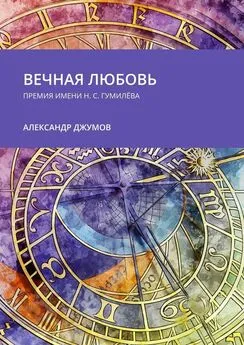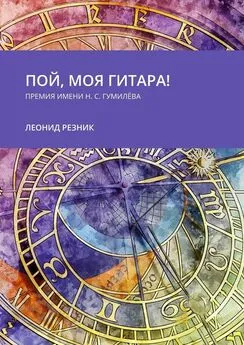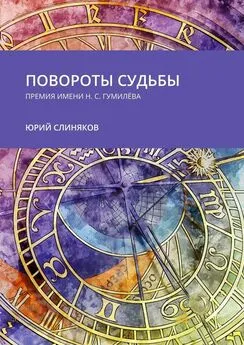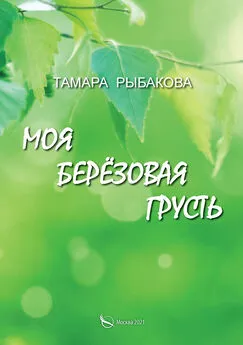Тамара Рыбакова - Исповедь Тамары. Премия им. Н. С. Гумилёва
- Название:Исповедь Тамары. Премия им. Н. С. Гумилёва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785794908251
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Рыбакова - Исповедь Тамары. Премия им. Н. С. Гумилёва краткое содержание
Исповедь Тамары. Премия им. Н. С. Гумилёва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Странное случилось накануне годовщины маминой кончины, то есть, 5-го сентября. Мы с сынулей жили на даче. Он уехал в Москву за продуктами. Днём звонок: «Мама, ты мне звонила?» Я не звонила. «Как же так? На моём мобильном несколько пропущенных звонков от тебя. Как ты себя чувствуешь?» Я сказала, что у меня всё хорошо, что вечером я жду его. Через полчаса началось… я почувствовала себя плохо, потом совсем плохо, приняла лекарство, не помогало. Стала молиться, молиться, молиться. В это самое время сын в Москве метался по квартире, необъяснимое волнение за меня не покидало его. Он заходил в мою комнату, пытаясь понять, что происходит, почему такое волнение, почему постоянно в голове «Баба Лена, баба Лена». Я в это время собрала последние яблоки. Начала готовить ужин. Чувствую, какая-то тень справа от меня нежно наклонилась, пытаясь заглянуть в лицо. Я так чётко видела эту тень, словно это была тень моей мамы, что невольно повернула голову к тени, но она тут же ушла за мою спину. Я стала молиться, тень исчезла. Так что же произошло? Я не звонила сыну, а на его мобильном высвечивался не раз мой телефон. Мне было плохо, сын это чувствовал всё время, пока мне было плохо, и ему почему-то постоянно приходила мысль о бабуле – моей маме. И эта тень, похожая на маму… Она была рядом со мной, но ненавязчиво, а как-то особенно тихо, нежно, внимательно, как и при жизни. Я неоднократно убеждалась, что земной и неземной миры сближаются, а связи становятся всё более ощутимыми. Перед печальным днём маминой кончины всё это случилось. Я и сын это ясно почувствовали. Я позвонила своей подруге Нэлли Орловой (учились на филфаке в Томском педагогическом). Она знала мою маму, я знала её семью, была на похоронах моей мамы. Мы вместе с ней и нашими детьми (моей дочерью и её сыном Эником, когда им было по 5 лет) ездили в Коктебель к Чёрному морю и к Дому М. Волошина. Недавно она похоронила своего дорогого сыночка Эника (ему было всего 56 лет). Говорили по телефону и плакали обе. Моей подруге очень тяжело сейчас. Как помочь? Чем утешить? Утешить нечем, знаю, как страдала моя мама после смерти своего сына. Отправила Нэленьке деньги. Она сообщила, что установят памятник на могиле Эника от меня и моего сына. Господи! Дай нам силы, терпения пережить эти беды, эти невозвратные потери наших близких, дорогих! И сохрани от бед, напастей и тяжких недугов живущих рядом с нами!
Вернусь снова в Караганду, где мы с братишками осиротели, стали изгоями, как дети «врагов народа». Я не могла посещать школу, а уже начался учебный год, я должна была учиться в 7-м классе, Боря – в 6-м, а Коленька должен был пойти в 1-й класс. Тётя Шура Чайковская как-то собрала Коленьке одежду, тетради, карандаши, сшила из старой ткани сумку. С этим мой любимый младший братик пошёл в школу. Мы с Борей решили, что так дальше жить нельзя. Через моего любимого учителя казахского языка Балтеша Зигировича Татикова я получила географическую карту Сибири. Прежде чем продолжить описание нашей дальнейшей жизни, хочется вспомнить нашего учителя казахского языка Балтеша Зигировича Татикова. Он по профессии пастух. Но ему очень хотелось, чтобы мы, ученицы, волей судьбы оказавшиеся в Казахстане, полюбили его родной язык. Он был в годах, даже в жаркую погоду носил тюбетейку и тёплые на вате штаны. Мне нравился казахский язык, я учила его с удовольствием. В хоре была запевалой гимна на казахском языке. Выступали на городском смотре в Караганде. На школьных вечерах я тоже пела. Балтеш Зигирович всегда сидел в первом ряду и просил исполнить гимн на казахском языке. Он был просто счастлив, слушая гимн на родном языке. Этот замечательный человек нашёл для меня географическую карту Сибири, принёс её в нашу землянку. Прощаясь, он сказал, что мои родители Максимовы – очень хорошие люди и пожелал благополучно добраться. Смущаясь, сунул в руку три лепёшки (для меня и моих братиков). А я спела ему гимн на казахском язык. Слова такие: «Быз казах, ежелден, еркындык ансаган, бостандык омер мен, ар ушин, кыйгаджан, Жёл сакпай турганда, жар кырап ленин дэй, кун шыгып, атты тан» (буквы к, г произносятся в казахском языке гортанным звуком, с придыханием, похожим на «г» в укранском языке). Простившись с добрейшим Балтешем Зигировичем, мы с Борей стали искать город Анжерку, откуда нас в 1942-м году мама вывезла в Караганду. Я помнила хорошо приёмных родителей моей мамы – милого дедушку Ваню и бабоньку Маню. Помнила, что они жили на улице Лермонтова. Номер дома не помнила. Письма от бабушки тоже были конфискованы при аресте папы. Ещё помнила, что почти рядом с их домом был магазин, в котором было всё – от больших кусков сахара (так называемый кусковой сахар) до калош и хозяйственного мыла. Фамилии бабоньки и деды Вани мы не знали и написали письмо по адресу: Кемеровская область, город Анжерка, улица Лермонтова, магазин, для бабы Мани и деды Вани (почти как на деревню дедушке). Письмо пришло в магазин, там сразу поняли, кому его передать, но решили прочитать, так как показалось сомнительным: кто пишет, не зная фамилии и номера дома. В это время в магазин вошла баба Маня, прислушалась. И как только продавец зачитала последние слова: «Заберите нас, иначе мы умрём, ваши внуки Тома, Боря, Коля», бабонька упала в обморок. Деда Ваня выслал нам деньги на дорогу, тётя Шура купила билеты, снарядила корзинку с провизией, соседи принесли кое-что из вещей. Так мы оказались в Анжеро-Судженске. Деда Ваня отвёл нас в школу. Это было в конце сентября 1950-го года. Вскоре деда Ваня сообщил в Прокопьевск нашей тётушке Людмиле о нашем приезде. Спустя сутки на семейном совете взрослые решили, что с тремя внуками дедушке будет тяжело (он уже был на пенсии, а бабонька не работала), и тетушка забрала Борю к себе. Коля категорически отказался уезжать, просил меня, чтобы я его не отдавала. Так мы с ним остались в Анжерке, а Боря в Прокопьевске.
Прежде чем писать о нашем житье-бытье в Анжерке, напишу о не родных по крови, но родных по отношению к нам, родных душой. Начну с деды Вани (Иван Дмитриевич Сороченко), которого мы особенно любили за его кроткий нрав, доброту, трудолюбие, уважение к людям. Когда мы, осиротевшие, «осели» у деды Вани, ему было за 70. Он был стройный, чуть выше среднего роста, уже седой, с правильными красивыми чертами лица, от которого всегда исходило доброе расположение к человеку. Движения были ловкие, но неторопливые. Походка легкая, тихая. Он вообще был тихий, спокойный, никогда не выдавал своего волнения. На меня и маленького братика он действовал успокаивающе. Мы предложили дедуле помощь, так как видели, что он много работает, устаёт, хотя никогда не жалуется и вида не подаёт. Он, как нам показалось, был очень тронут нашим вниманием, даже растерялся от неожиданности. Мы объяснили дедуле, что успеем сделать уроки и ему помочь, например, носить воду из колодца, который был далеко от дома. Зимой дедуля колол лёд у колодца и на ступенях, чтобы не было скользко. Летом воды надо много для полива огорода (около 30-ти соток), в котором они с бабой Маней выращивали морковь, капусту, свёклу, лук, картошку, причём, картошка была двух сортов: кореневка и берлинка. Кореневка была вкусной даже без масла, рассыпчатая, золотистая. Берлинка была розоватого тона, её использовали для жарки, для супов, салатов. Деданька нам, помощникам, как он нас называл, смастерил вёдра: Коленьке – маленькое, мне чуть побольше. Я попыталась обидеться: я взрослая, сильная (мне было тогда 13 лет), а ведёрки как для ребёнка, на что деданька спокойно ответил: «Девочкам нельзя тяжести носить». Признаться, носить воду нам не доставляло большой радости: к колодцу надо почти бежать с громыхающими пустыми вёдрами по крутому спуску и в слякоть и в гололёд, и по сугробам, а с полными вёдрами подниматься в гору. Особенно трудно было зимой: сибирские морозы до 35 градусов, скользко, нельзя расплескать воду, так как образуется лёд, и любой может упасть. Но и медленно идти нельзя: можно отморозить щёки, нос, что не раз с нами бывало. Зато после такой зарядки мы любили с деданькой пить чай, золотистый, ароматный, заваренный смородиновым листом, морковными листьями, сушёной морковью, с малиновым вареньем, рядом горячая печка и добрейший человек – наш деданька. Душа оттаивала после недавней трагедии. Я просила деданьку рассказать о своих родителях, бабушках, дедушках, но всякий раз ловила тревожный взгляд бабы Мани. В начале мая – посадка картошки. «Командовала парадом» бабонька: где, какой сорт картошки сажать, на какую глубину, чтобы непременно глазками вверх. Деданька копал, мы с Колей, согласно бабонькиной инструкции, укладывали кусочки картофелин глазками кверху. Братик быстро уставал, его отправляли в дом, но вскоре он возвращался со словами: «Я соскучился». И вот однажды, во время короткого отдыха братика, деданька «по секрету» рассказал мне о своей родословной. Он – Иван Дмитриевич Сороченко – потомок генерала польской армии Княжевича Карла Ивановича Лишь десятилетия спустя я узнала даты жизни Княжевича К. И. (1762—1842). Но деданька был незаконнорожденным, потому его отдали на воспитание другой семье. «Значит, деданька, ты не русский?» – выпалила я от неожиданности. Мой мудрый деда Ваня объяснил: «Поляки – то есть поляци (в народе) – это тоже славянский народ, как и русский, даже отчество моего предка Иван, и мне дали это имя». Через некоторое время маленького Ваню увезли на Украину. Семья была зажиточной, с большим хозяйством, полями, мельницей, пекарней, маслобойней, сахарным заводиком, конюшней. Мальчик рос в труде, многое знал о ведении хозяйства, косил, заготавливал силос для коров и лошадей, сеял, следил за здоровьем лошадей, учился работать с деревом, металлом, оцинковывал вёдра, умел припаять ручки к вёдрам и многое другое. Трудолюбивого, послушного, умного мальчика в семье любили. По возвращении из гимназии Ванечка спешил в конюшню, «разговаривал» с лошадьми, которых считал самыми умными животными. Много времени проводил за токарным станком. Всё делал с удовольствием и добротно. В их большом хозяйстве работали батраки. Среди батрачек он нашёл свою судьбу – юную красавицу Марию. Но счастье прервала Первая мировая война. Справляться с большим хозяйством стало трудно: мужчин забрали на войну. Родители погибли, участились грабежи, пожары. Иван с молодой женой решили покинуть неспокойные места. Часть батраков, стариков и женщин с маленькими детьми, боясь умереть с голоду, пришли к Ивану: «Иван, свет Дмитриевич! Возьми нас с собой, не подведём, не дай умереть, добрая душа». Дедушка не отказал в помощи никому. Тем, кто остался, тоже помог: кому передал сахарный заводик, кому мельницу, кому дом, в котором вырос. Жаль было лошадей: их забрали на войну. Приехали в незнакомую, холодную Сибирь, в небольшой шахтёрский городок Анжеро-Судженск. Дедушка с помощью бывших батраков построил дом себе, родственникам жены, семьям батраков, помог устроиться им на работу, делился инструментами, советами, деньгами. Жили дружно, помогая друг другу. Дедушка завёл и здесь хозяйство: большой огород, лошадь, поросята, корова, куры. Овощей с его огорода хватало на несколько семей, которых он привёз с Украины. Дом деданьки был хлебосольным. Кормили всех, кто приходил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: