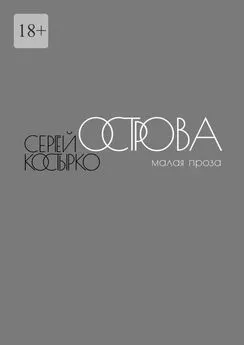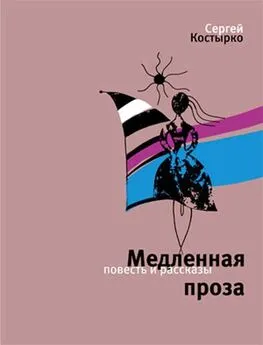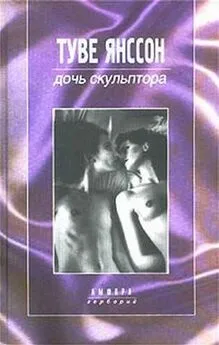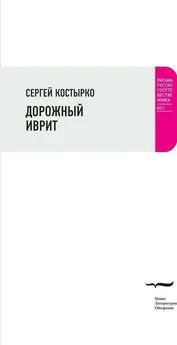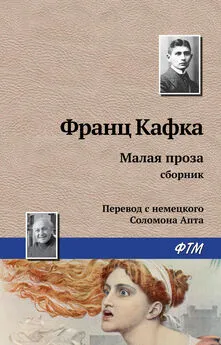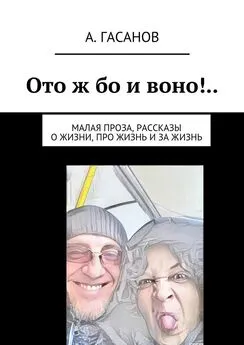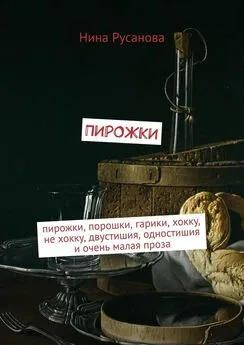Сергей Костырко - Острова. Малая проза
- Название:Острова. Малая проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005636133
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Костырко - Острова. Малая проза краткое содержание
Острова. Малая проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что женщины, которых инквизиция в свое время сжигала на кострах, может, и действительно ведьмами становились. Ясно же, что те двери в вагоне метро открывала я.
Музей. Из дневника (16.11.2020)
Вчера, в воскресенье 15 ноября 2020 года, я, вопреки назначенной себе по случаю коронавируса самоизоляции, вдруг оказался в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Накануне вечером я узнал из новостей по радио, что с понедельника из-за пандемии все московские музеи закрываются на два месяца, и тут же полез в интернет на сайт Пушкинского музея оформлять билет на воскресенье.
Утром в метро по дороге в музей я читал «Головокружения» В. Г. Зебальда, и мой карандаш на автомате отметил на полях фразу: «Еще много лет назад его картины пробудили во мне стремление научиться отказываться в чувственном восприятии от всего, кроме созерцания». Интересно было бы попробовать, подумал я.
Забегая вперед, скажу, что на обратном пути отмеченной фразой оказалась вот эта: «Я сидел за столиком рядом с открытой дверью на террасу, разложив вокруг свои бумаги, и производил соединительные линии между отстоящими друг к другу происшествиями, которые, как мне казалось, связаны каким-то общим порядком».
И вот сейчас я сел записывать вчерашнее, задним числом удивляясь тому, как легко могут складываться абсолютно случайные сюжеты в «общий порядок». В отличие от Зебальда, делавшего осознанные усилия по проведению соединительных линий между ними, мне нужно лишь повторить свой вчерашний проход по музею, никуда не сворачивая.
1
В 11.23 (на часы посмотрел потому, что билет у меня был на 11.30) я вышел из метро «Кропоткинская» у храма Христа Спасителя на серую, пустую, без единой машины – утро воскресенья и пандемия – Волхонку, которую можно было пересекать, не обращая внимания на цвета светофора. И не только машин, но людей на улице тоже не было. Пасмурно, ветрено – рассвет остановился на полдороге. Я прошел в черную металлическую калитку, мимо темных елок, поднялся по ступеням крыльца и вошел в музей, который за свою жизнь выучил почти наизусть.
На этот раз я решил, не мудрствуя, пройти музей обычным маршрутом, начав с залов Египта. Но обычного маршрута уже не было – вторым после зала с фаюмскими портретами, с которых на меня смотрели хорошо знакомые лица, ну, может, чуть подзабытые, как лица однокурсников, оказался зал с коллекциями Шлимана, добытыми в развалинах древней Трои. На этот зал в последние годы я никак не мог выбрать времени, и вот я вошел в него. На витринах передо мной разложены предметы, которых, возможно, касались руки Гектора, Гекубы, Кассандры, Андромахи и множества других персонажей «Илиады». То есть, если Троянскую войну не Гомер сочинил, а Троя была на самом деле, то и перечисленные имена – это уже имена не персонажей, а исторических лиц.
И не такое уж космическое расстояние отделяет нас от той войны. На одной из витрин выложены молоты-топоры, изготовленные троянскими скульпторами-камнерезами из нефритоида и лазурита, и, судя по художественной изощренности в их отделке, эти топоры в качестве инструмента или оружия уж точно не использовались, скорее всего они были атрибутами каких-то ритуальных церемоний как символы эпохи, давно ушедшей для троянцев. Топоры были похожи на дорогие туристские сувениры.
Так же убедительно смотрелись женские украшения, особенно диадемы, составленные из неимоверного количества крохотных золотых лепестков. Хотя должен сказать, что золото этих лепестков казалось слегка выгоревшим, как бы немного уставшим за три тысячелетия быть золотом.
Одна из диадем экспонировалась с помощью поясного манекена молодой женщины, голова, плечи и грудь которой были затянуты черной тканью – диадема охватывала лоб, виски и двумя золотыми ручейками стекала на щеки и вниз – на плечи и грудь; каждому из посетителей предоставлялась возможность разглядеть под черной тканью свою Елену.
«Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи?» – воспоминание этой фразы была первой, чисто рефлекторной реакцией на черный силуэт, и – второе: разглядывая хрупкий силуэт скрытой от меня женщины я подумал: вот переживание, которым, на самом деле, измеряется время.
2
Следующим был Ассирийский зал, вход в который образовывали два каменных крылатых льва и который я обычно проходил с вежливым равнодушием: типа, ну да, наидревнейший Восток, любопытно, конечно, только «не мое» все это. Но на проходе через зал мне почудилось издали что-то похожее на японское нэцкэ. И я подошел к витрине. Да, действительно похоже – статуэтка сидящего мужчины с той же, что и у нэцкэ, обобщенностью общего силуэта, силуэта статичного, но при этом наделённого неожиданно мощной энергетикой. Опущенные на ширине плеч и согнутые в локтях руки мужчины держат на коленях лист раскатанной глины. Табличка на стене: «Писец. Конец Среднего царства, ок. XVIII в. до н.э.». И это скульптурное изображение не бога, не правителя, не божественного зверя или воина, а – писца. Слева на той же полке еще одна фигурка писца, и ниже – еще. А на полке ниже глиняные – точнее глиняные когда-то, но уже давно спекшиеся в камень – таблички с клинописными текстами. Таблички сравнительно небольшие, их можно положить в карман или в сумку как книжку. И вот тут я впервые обнаружил, что стою в зале, целиком покрытом клинописью. Стены зала покрыты как гобеленами каменными барельефами с изображениями сцен охоты, войны, дворцовых церемоний, восточных божеств, и почти все изображения использовались как фон – только фон! – для текста, выбитого в камне.
А в центре зала – черная стела с закругленными углами, слегка наклоненная, похожая на вздыбившийся фаллос. Поверхность стелы сверху донизу покрыта клинописью. Под стелой табличка: «Диоритовая стела с законами Хаммурапи. Старовавилонский период. Середина XVIII в. до н. э. Сузы». То есть текст, пеной стекающий по плоти камня, – это слово закона. Слово, превращавшее стаи человекоподобных – в людей, то есть в народ, в государство.
Иными словами статус писца в Вавилоне – статус Хранителя Слова.
И что? Получается, что вот этот черный камень, мимо которого я проходил много лет, не замечая его, – это, можно сказать, – тоже я. Я, который по крови – славянин из Полесья, при этом родившийся на берегу Тихого океана за тысячи километров от Месопотамии, я, который не способен прочитать ни слова в развернутом сейчас вокруг меня тексте, я оказываюсь производным от этого вот текста. Как воспитанник цивилизации, текстом этой стелы начатой, ну а в нынешнем изводе этой цивилизации занимающий в ней сакральное место писца – под рукой у меня вместо мягкой глины клавиатура ноутбука «Lenovo».
Да нет, разумеется, я понимаю, что вот сейчас, в эту минуту, миллионы таких же дятлов, как и я, долбят клювами в свои клавиатуры. И нас таких «сакральных» в век «постов» и «блогеров» – прорва. Ну и что? Кто может знать, сколько вмещает память человечества?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: