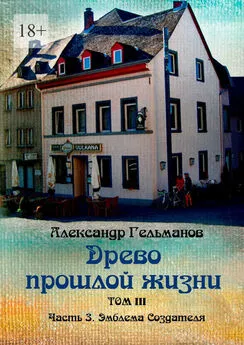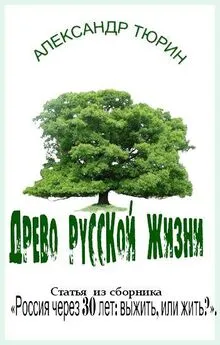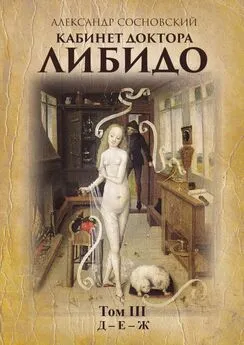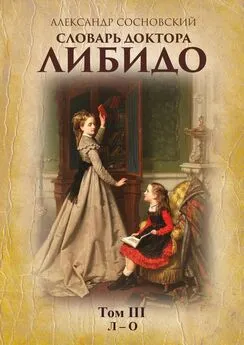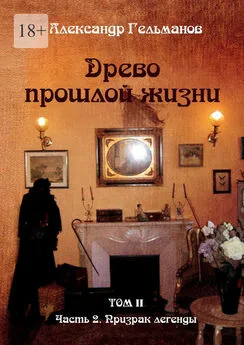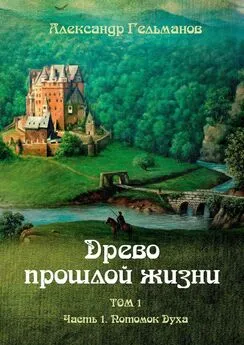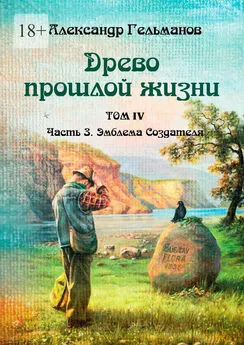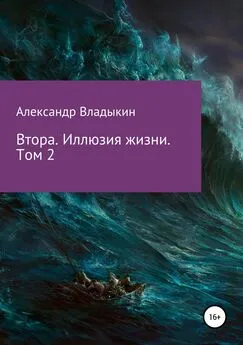Александр Гельманов - Древо прошлой жизни. Том III. Часть 3. Эмблема Создателя
- Название:Древо прошлой жизни. Том III. Часть 3. Эмблема Создателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005516008
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гельманов - Древо прошлой жизни. Том III. Часть 3. Эмблема Создателя краткое содержание
Древо прошлой жизни. Том III. Часть 3. Эмблема Создателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Большая земля… И везде замки?
– Везде. По всей стране.
Мы ехали среди пашни. Впереди показалась деревенька – я едва успел прочесть дорожный указатель – Меттерних. И опять по обе стороны не было ничего, кроме полей, между которыми пролегали аккуратные асфальтированные дорожки. Через несколько минут мы уже въезжали в Мюнстермайфелд, значит, от поворота у реки до него было километров семь, отсилы восемь. Загородное шоссе переходило в Айфельштрассе, ведущую через пригороды к центру. Мы доехали до перекрёстка, образованного тремя улицами и, почти не меняя направления, въехали на Оберторштрассе. Марк был сосредоточен, а я старался запомнить схему улиц. Затем он свернул направо, на узкую Борнштрассе, и метров через двести мы упёрлись в небольшую, словно игрушечную, мощёную площадь Мюнстерплац, за которой стоял собор.
– Это и есть главная кирха святых Мартина и Северуса. Куда теперь?
– Паркуйся, в ногах правды нет, – я мучительно думал, как сказать другу, что решил здесь остаться, но поступить иначе не мог. Нам не часто удаётся вернуться туда, где проходила и обрывалась наша жизнь.
Марк развернулся и поставил «опель» на краю площади, почти напротив входа в церковь. Стрелки квадратного циферблата часов на церковной башне показывали 10 часов 27 минут.
– Ну, что надумал?
– Бутербродик-то дай. С сыром, с колбаской и с лососиной. И с кофе.
– Пора бы. Щас, – Марк потянулся за сумкой, – бери, я пока кофе налью.
– То, что я надумал, тебе не понравится. Этот городок меня очаровал, хочу, не торопясь его обойти, потом наведаюсь в замок. Тебе же надо на работу.
– Наведаюсь! Ну, ты даёшь. Имей в виду, тут автобусы между райцентрами и деревнями, как в России, не ходят, а до замка придётся шлёпать пёхом, и отеля при нём нет.
– Попрошусь на постой к какой-нибудь старой одинокой фрау, которая будет рада прибавке к пенсии и уложит на кровати времён Бисмарка. Вечерком она покажет мне пожелтевшие фотографии брата из гитлерюгенда и жениха в форме штурмовика СС, погибшего под Сталинградом, и вспомнит, как в 45-м подошли с запада освободители-американцы. А утром сварит крепкий кофе и прослезится от того, что я напомнил ей сына.
– Фантазёр. Не смеши меня.
– А что смешного? Знаешь, как запричитали наши деревенские бабы, завидев в глубинке щеголеватых немцев в грязи по щиколотку? «Сынки, заходите, мы же с вами воевали!»
– Мне Людмила за тебя разнос устроит. Как я мог гостя сюда одного отправить? Что я ей скажу?
– Скажи, что я большой мальчик и дня через два вернусь в Дортмунд. А тебе было некогда исполнять капризы какого-то придурка, который по-немецки знает только одно слово «danke», но не может выразить, за что. Обещаю в полицию не попадать. Усёк?
– Ладно, шут с тобой. Благодаря тебе, заеду к дальним родственникам в Нойвид, давно проведать хотел.
– Где это?
– По пути. Дальше Кобленца, километров пятьдесят отсюда. Давай, хоть в замок тебя отвезу.
– Сам дойду. Сколько до него?
– Километров шесть, – Марк взял карту. – Из города выходи по прямой, не сворачивай, – вот отсюда. Посередине пути будет Wierchem, пройдёшь прямо через него, увидишь дорогу направо, на Keldung, – туда не ходи, продолжай двигаться прямо по шоссе. Ну а там у кого-нибудь спросишь или заметишь дорожный знак.
– Найду, не беспокойся. Вот сюда добраться я бы без тебя не смог, – я допил обжигающий напиток. – Руку!
Марк протянул руку, мы попрощались. Обижаться он не умел, и за это я тоже его ценил. Я вылез из кабины, стряхнул крошки со штанов и сощурился от солнца.
– Чудак ты – с транспортом здесь проблемы, даже автостанции нет, – ответил он и повернул ключ зажигания.
– Что, совсем ничего?
– Только школьный автобус, который развозит детей. У всех же личный транспорт.
В ответ я на прощанье махнул рукой. Паликовский развернулся и уехал, а я остался стоять на булыжниках посреди площади с рюкзаком в руке. Настроение было мистическим. Мне не только предстояло осмыслить нечто , но и, возможно, раскрыть некую тайну , от которой зависела дальнейшая судьба. Но зря вы подумали, что я не испытывал в этот момент чувства растерянности и холодка пониже спины, – я не знал, в какую сторону и зачем идти, и в довершение всего, городок словно вымер, кругом ни души, в прямом и переносном смысле – средневековая глухомань.
Мюнстерплац была невелика – не более шагов ста на сорок, и примерно столько же занимала высокая, жёлтого камня, церковь. Вокруг всё вылизано почище, чем казарменный нужник зубной щёткой, – и дома, и тротуары, и каждый уличный булыжник. Храм по архитектуре был не прост: две круглые башни, двускатная и многоскатная крыши, узкая колокольня и ряд пристроек. Вход находился со стороны площади слева, под арочным, в готическом духе, сводом. Справа от площади стояло трёхэтажное белое здание с крупными буквами наверху – «Maifelder Hof», напротив церкви – сберегательная касса и музей, у которых припарковались легковые авто. С левой стороны площадь ограничивалась выходившей к ней Борнштрассе, по которой я приехал, а на углу этой улицы, наискосок, шагах в двадцати от входа в церковь, расположилось трёхэтажное здание с зелёными буквами на белой вывеске – кафе «Vulkan». Перед ним под большими зонтами были выставлены пять прямоугольных столов с плетёными креслами. С левого торца церковь была огорожена забором из неровных камней, к нему примыкала автостоянка, граничившая к кафе.
Я подошёл к церкви и прочёл на стене: «Stiftskirche St. Martinus und St. Severus» и годы – «1225—1322». Святые служили здесь задолго до рождения моего духовного предка, до официального учреждения Инквизиции. Справа от входа на камне фундамента была выдолблена цифра: 662.
«Густав фон Рот мог бы доскакать на коне до церкви из своего замка за четверть часа», – подумал я и поднялся по ступеням к дубовым дверям, собираясь увидеть то, на что мог смотреть мой предок по Духу, – в этом я нисколько не сомневался.
Внутри царили тишина и полумрак, высоко над головой сквозь цветные витражи окон пробивался тусклый свет. Слева от входа располагался орган в богатом золотом убранстве с изящными фигурками нимф и капелла, направо, в дальнем конце – древний золотой алтарь с изображением сцен религиозной жизни. По обе стороны центрального прохода к алтарю тянулись длинные тёмные скамьи с пюпитрами. Справа от входа – скульптурная группа – лежащий на возвышении Христос в окружении близких; рядом стояли фигуры святых в католических одеяниях – Святой Мартин в островерхом католическом уборе и Святой Северус в золочёной одежде, поднимающий руку с чашей. Здесь же, вдоль правой стены, в полу из серых плит, почти вровень с ним, я разглядел несколько каменных надгробий с рельефом погребённых, орнаментом и латинскими надписями по периметру, а на одном из них прочёл цифру – «669», означавшую, вероятно, год. Мне стало грустно: тот факт, что в наших церквах принято многочасовое выстаивание в тесноте и духоте с выслушиванием песнопений на непонятном старославянском языке, никак ни объяснялся ни отсутствием «метража», где «поставить лавки», ни исторической демагогией об «исконных корнях». Для кого-то поповское «лучше хорошо стоять (как православные), чем плохо сидеть (как католики)», – исчерпывающий ответ, для меня – нет, потому что звучит, как продуманное хамство во избежание лишних вопросов. В тесной церкви на Руси хватало места крестить на веру, чтобы воспитать раба Божьего послушником власти, но сделать Россию сильной своею правдой, в ней места не хватило, потому что в ногах правды нет. Распространитель христианства и креститель Руси князь Владимир вряд ли не ведал, что римские попы подменили реинкарнацию вечным адом, и не мог не понимать, что «реинкарнирующего» раба Божьего труднее подчинить власти, и идеи реинкарнации раннего христианства в качестве инструмента скорого обретения власти на огромных территориях не пригодны. Что ни говори, угроза потери первой и последней жизни во все времена – аргумент веский. Церковное извращение древнего постулата веры «Всякая власть от Бога» было удобно любой власти, поскольку в основе извращения лежал «запрет на перевоплощение душ», которое превращало орудие власти в её тяжкую ношу. То, что всякая власть – от Всевышнего, утверждают и законы реинкарнации, однако трактуют данный постулат абсолютно иначе. Книга Духов появилась в тот момент, когда люди могли бы более осознанно избегать деспотии, революций и социальной несправедливости, да разве Церковь её поддержит? Христос принёс людям Великое учение – Его распяли. Апостолы понесли Учение дальше – были зверски убиты почти все. Могло ли христианство дойти до нас в изначальном виде? Нет, не могло – оно и дошло до нас лишь потому, что распятие Спасителя римской властью оставило память, а власть многократно переиначивала текст Библии «под себя», чтобы было легче управлять людьми. В конце концов, Католицизм в своём лицемерном стремлении к власти и изуверстве «святой нечисти» докатился до абсурда: сожжения живьём за мысли о повторном рождении и те же идеи, которые ранее проповедовались. Ядро учения Христа вытравили, душегубы Ватикана добились своего, религия распространилась по странам и континентам. При этом за христианскую эпоху насильственной смертью погибли сотни миллионов людей, и впервые за всю историю возникла угроза самоуничтожения человечества. Хороши святые отцы, вразумили! А сами-то чего вечного пламени ада не убоялись, когда из «Фонда Всепрощения Христа» свои акции-индульгенции по всему Шенгену лохам впаривали да на площадях со спичками играли? Кто талдычит нам до сих пор, что Христос пострадал за нас и искупил наши грехи? И отчего сложилось мнение, что покаяние в каком угодно грехе – безусловный пропуск в райскую вечность?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: