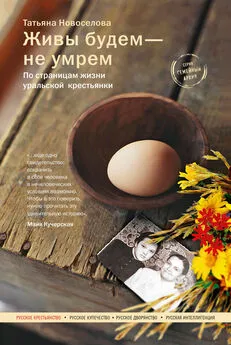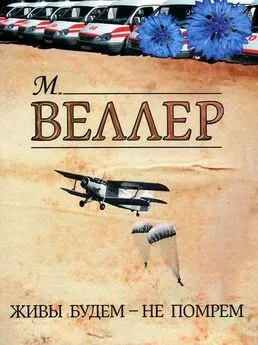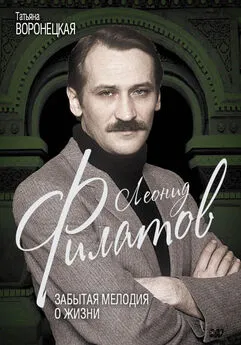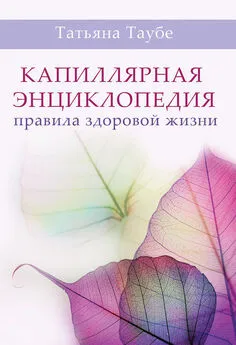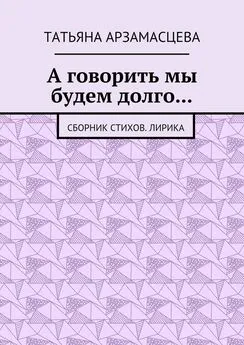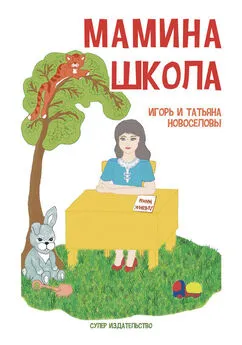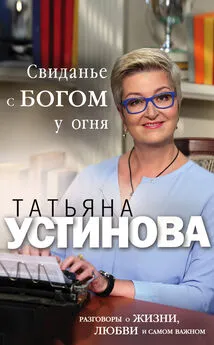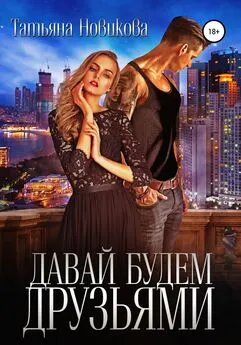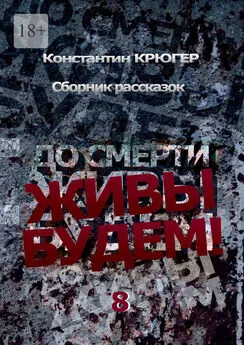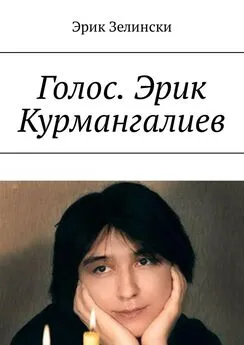Татьяна Новоселова - Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки
- Название:Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907202-70-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Новоселова - Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки краткое содержание
Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В самый разгар войны на лесоповал отправляли из колхозов всех, кто годился, кроме стариков, инвалидов и детей. Всю свою долгую жизнь мама вспоминала лесоповал, куда ее отправили от нашего колхоза «Красный пахарь». Я и сейчас помню ее рассказы. По мере моего взросления и осознания происходящего, я засыпала ее вопросами.
– Что ты там делала, мама?
– Все, что десятник скажет. Отпираться не будешь или судить-рядить, ведь не на курорт приехала отдыхать. Мужики лес ручными пилами с комля пилили, а мы сучья обрубали по колено в снегу, а когда и до пахов. Потом я ледянку мела дочиста ползимы, чтоб лесины удобнее было к реке по ней скатывать, а там эти бревна скрепляли в плоты.
Позже мои вопросы уже требовали подробностей, так я узнала, что ледянка – это широкая, длинная, сплошь вся ледяная дорога. Ее готовили заранее, расчищали от деревьев и кустов. Самым трудным было выкорчевывать пни.
– А как выровняем к морозам, – рассказывала мама, – то в бочках на лошадях подвозили воду с реки, заливали ее водой, и делалась она тогда ровной и вся изо льда. Лошадей ковали хорошо, чтоб не падали и не катались. Иногда за ночь снегу на нее наметало почти по колено, вот я и сгребала его на стороны, да мела ее метлой.
Тут в ее рассказ вступала я с вопросом: а не падала она, не ушибалась ли?
– Еще как! Так хлопнешься, что все в тебе сбрякает, а из глаз разноцветные искры посыплются. Жаловаться было некому. Наперед знала, чё десятник скажет: «На молодом теле, Лиза, нет накладу».
– А вы в бане мылись?
– Вот ведь какая ты неуемная: все тебе надо знать с пяты до пяты.
Помню, перед ответом на этот каверзный вопрос она залилась звонким, веселым смехом, глаза ее прищурились и засверкали.
– А вот скажи про это сейчас доброму человеку, так не поверит. Баня была одна на всех. Стояла она недалеко от барака. Большая, с двумя печами, а в печах вделаны котлы для воды. Была она с предбанником, там на шесте березовые веники висели. Мылись сразу все вместе: и мужики и бабы, только сидели на скамейках по разным сторонам. Свой стыд вениками прикрывали. Пару было много, а хохоту еще больше.
Мы все тогда дружно жили, народ был другой, и время другое, и трудности были одни на всех. Разглядывать никто никого в бане не будет – не до того. Мы лес валить приехали, а не свое тело казать да холить. Там каждая секунда рабочего времени была на счету. Все, как на войне. Мы все вместе ни свет ни заря на работу до самой темноты, пока команду не получишь от десятника.
Я не понимала, зачем надо было мыться всем вместе, и просила ее тут же растолковать это хитроумное обстоятельство. Оказалось, это делалось для того, чтобы работа не стояла, ведь все они в этой технологии зависели друг от друга.
– Легче всего мне было, когда перед самым декретным отпуском поставили меня на легкий труд – носить в огромной паевке за плечами еду лесорубам. Ближе к бараку лес был давно вырублен, лесорубы углубились уже далеко в лес, а время на ходьбу мужикам терять не положено. Вот я и носила им подкрепление. Чаще всего брела по сугробам по пояс. А то и вовсе пурхалась в снегу, как в пуху, но, главное, скажу тебе, Таня, за всю зиму ни одних штанов не износила. Никаких. У меня их вовсе не было. Надевала на себя юбки, какие были, да длинный шугай (пальто по-теперешнему).
Не я одна так горе мыкала. Моя двоюродная сестра Фекла Федоровна, или, как по-свойски называла ее мама, Феклуня, перещеголяла меня. Она три зимы подряд на лесозаготовках мантулила. Да, что говорить, там работали люди и не нам чета.
Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить, что такое трудодень, за который работали люди в колхозах и здесь, на лесоповале. По словам моей мамы (а не из энциклопедии), трудодень – это поставленная палочка карандашом на бумажке у бригадира. По количеству этих палочек в конце года определялось трудовое участие колхозника в общественном хозяйстве. Видимо, так на деле осуществлялось социалистическое распределение по труду. А заодно работал принцип укрепления трудовой дисциплины, так как трудодни могли зачеркнуть или не записать вовсе, если бригадиру показалось, что качество выполненной работы низкое. Но могли, наоборот, начислить полтора, два, половину трудодня. Это делалось чаще по собственному усмотрению бригадира, а по словам мамы – «черт знает, как они их начисляли». Нарисованные простым карандашом, они от времени могли стереться, и колхозники нередко замечали: «Фимическим карандашом рисуй, да плюй на него шибче, чтоб не стиралось». Я, будучи школьницей, была свидетелем ведения этой бухгалтерии и крепких разборок.
В конце декабря 1943 года маме дали декретный отпуск на неделю по случаю предстоящих родов, а в придачу неожиданно порадовали тремя метрами ситца и отправили одну домой. В конце декабря морозы стояли под -25 с ветром, идти предстояло далеко, и все на своих ногах. Деревни дорогой встречались редко, кругом один лес. Зима была снежной. Иногда маленькие снежинки, словно белый пчелиный рой, падали с веток деревьев на голову, лицо. Снег хрустел под ногами, как сухари. Волосы из-под платка седели на морозе, пар от дыхания туманил глаза и мешал идти. Кругом таежная ширь и раздольность тайги. И чего только не передумаешь за дальнюю дорогу! Кругом ни души, только лес по обе стороны дороги стоит стеной. Молчат оба, но могут и расшуметься: он в бурю, а она только лишь в праздник, но о них, о праздниках, уже давным-давно все забыли. Да, сжились мы здесь, в вековой глухомани, с лесом, как со своим именем. И какая участь ждет нас? Может, вместе и погибнем. Он – от пилы и топора, а мы – от войны: от голода и холода. «И зачем я такое думаю сейчас? – спохватилась вдруг она. – Выбросить надо это из головы, мне такое сейчас думать не положено, а то ребенок угрюмый родится, а кто на свет идет – тому надо жить и радоваться».
Вокруг на огромном пространстве звенела тишина, лишь одна-единственная дорога вела взор вперед. Будущая мать прибавила шаг, но думы, чаще всего тревожные, наваливали на нее снова и снова. В длинном шугае идти неудобно и тяжело, но, слава Богу, ветер не мог просквозить. На ногах у колхозницы обутки. Так назывались в наших краях легкие полуботинки из кожи, которые шили сами. Хорошо, что мама все умеет делать своими руками. Специально для лесозаготовок пришлось связать две пары длинных толстых шерстяных чулок, как говорила она, «за коленко». Зимой их сразу вместе и надевала. В ту пору редко у кого были валенки, а главное, шерсти не было, ее «отдавали государству».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: