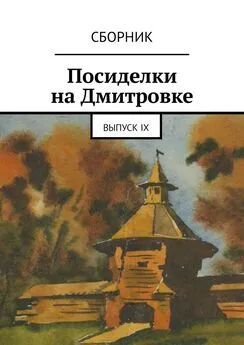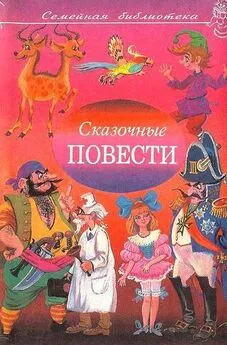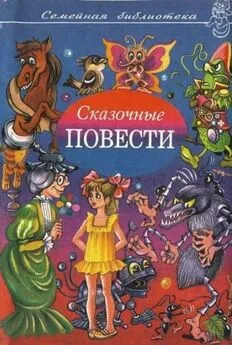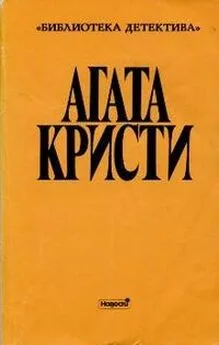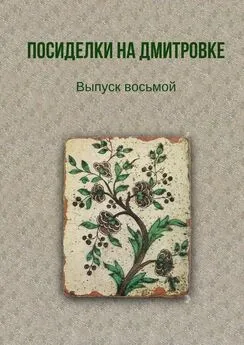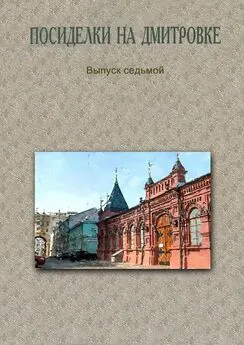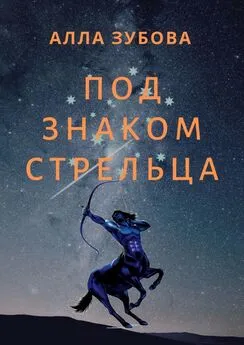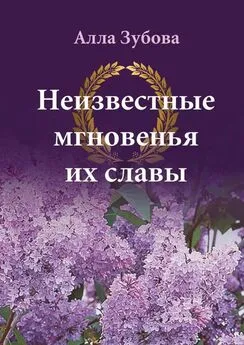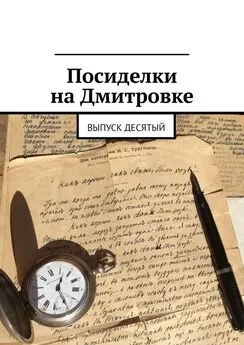Алла Зубова - Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449338846
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Зубова - Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый краткое содержание
Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как-то шел я по Неглинке и увидел под ногами большую зеленую купюру – 50 рублей. Я так растерялся, что подошел к продавщице мороженого и спросил: «Вы не теряли денег?» К счастью она тоже растерялась и сказала: «Нет», так что я принес деньги домой, и мама мне сделала подарок – разрешила купить на них коробку цветных карандашей и альбом бумажных солдатиков. Я их вырезал, и мы воевали.
Вторая реформа потребовалась, чтобы хоть как-то уменьшить денежную массу. Деньги по размеру стали меньше и их уже называли «хрущевскими фантиками». Наверное, в этих усмешках отразилось затаенное презрение к циничным манипуляциям власти.
Конечно, пропаганда была в восторге. Журнал «Крокодил» отметился угодливым сравнением: старая копейка валяется в грязи, затоптанная ногами прохожих, а новая копейка лежит, сияя лучами, и к ней тянутся десятки рук. На самом деле и этот обмен был скрытым подорожанием. Цены округлялись в большую сторону, а тот же стакан газировки или коробок спичек, как стоили копейку, так в той же цене и остались.
Но вернемся к книгам, к тому неожиданному событию, когда одна наша родственница завещала мне целый книжный шкаф с книгами дореволюционных изданий.
Жила на Земляном валу такая наша тетя Оля, бывшая модная портниха. Как-то ей удалось сохранить маленькую квартирку и существовать в ней отдельно от уличных событий. Сколько ни боролись мужчины с буржуазными привычками, жены их упрямо хотели красиво одеваться, вот они и помогли выжить тихой белошвейке.
Тетя Оля и маму учила шить и, вообще, помогала ей прилично выглядеть при отсутствии денег и товаров в магазинах одежды. Так что мы и с мамой ходили в гости на Земляной вал, а потом я и один стал забегать к гостеприимной тетушке. Она поила меня чаем с разными плюшками, потом, перед уходом совала мне несколько рублей. Но главное, я подолгу сидел у книжного шкафа. Там были большие альбомы художников: Врубеля, Левитана, Репина, совершенно мне не известных Бенуа, Лансере и других; журналы с красивым названием «Аполлон»; собрания сочинений Чехова и Льва Толстого, Горького, пьесы Островского и, наконец, главное – 25 позолоченных томов Большой Энциклопедии. Потом уже я узнал о знаменитом Брокгаузе и разобрался, что у меня не он, а просто старое, хорошее издание с яркими цветными картинками и картами.
Я читал и перечитывал первый том сочинений Чехова, где собрали все его издевательски смешные рецензии и пародии на тогдашние театральные премьеры. Московские сцены были переполнены фарсами, водевилями, разными шоу и скетчами с криками, стрельбой, дымом и раздеванием до нижнего белья. Хозяева театров шли на все, чтобы зритель ржал, как сумасшедший. Молодой, веселый Чехонте в своих пространных опусах доводил этот балаган до полного идиотизма.
В общем, мне привалило счастье. Дело было зимой, и я на санках по бульварам возил книги с Земляного вала к себе в Печатников переулок. А шкаф мы на сцепе санок тащили с другом Генкой.
К школе я вроде был подготовлен, но оказался среди отстающих. А еще я переучивался с левой руки на правую, и буквы мои выглядели ужасающе. Но тут в декабре местком выделил маме путевку, и меня отправили в зимний лагерь. Такой в пригороде подобрали большой старый дом и оборудовали на первом этаже два класса и столовую, а на втором – большую общую спальню.
Компания, одни мальчишки, собралась очень пестрая в духе тогдашней улицы. Москва была богаче всех городов и в ней собралось больше всего жуликов. На окраинах они отдыхали в своих «малинах», а в центре работали. Сретенка выходила на знаменитый Хитров рынок, а окрестности Цветного бульвара славились заведениями с красным фонарем. Советская власть Хитровку ликвидировала, «фонари» погасли, но уголовная атмосфера осталась, хотя жизнь ее корректировала. Если в нашем небольшом дворе кто-то из старших ребят традиционно отбывал срок, то мой двоюродный брат прибился к геологам и пропадал в экспедициях. А мой родной старший брат и еще один двоюродный после седьмого класса с помощью военкомата поступили в бакинское военно-морское подготовительное училище.
Ну, а в нашем зимнем лагере быстро сложилась уличная приблатненная атмосфера. Кто посильней, стали командовать, а кто послабей, слушались. Хотя делить было нечего и до издевательств дело не доходило. Просто в уличных играх вожаки были храбрыми разведчиками, а более тихие – пленными немцами.
В общем, мы жили хорошо: нас кормили, о нас заботились и разрешали много гулять. Я избавился от опеки своего братца, правая рука заработала, и учеба наладилась. К чтению меня тянуло по-прежнему, и я решил стать писателем. Для этого, по моим понятиям, нужно было узнать жизнь и прочесть все книги.
Тогда представление о мировой литературе у нас было очень туманное, и одолеть «все книги», о которых я слышал, казалось вполне реальным. Мне нравились романы Жюля Верна, я их прочел с десяток, и больше не мог достать, пошел даже в Ленинскую библиотеку (тогда это было просто). Там меня похвалили, но сказали, что и у них больше нет его сочинений, что вообще-то он написал шестьдесят с лишним романов, но многие не переведены на русский язык. Для меня это стало новостью. О переводе я как-то не думал. Казалось, что вот написал, напечатали и везде читают.
С такой же непосредственностью я первый раз оказался в театре. Как-то у меня скопилось двенадцать рублей. Я пришел в кассы Малого театра, дотянулся до окошечка и сказал:
– Дайте мне билет за 12 рублей.
Кассирша равнодушно выдала бумажку. Я отошел в сторонку и прочитал: «Балкон 2-го яруса, начало в 19 часов». И косой фиолетовый штамп – «Бесприданница».
Советские режиссеры к классикам относились с почтением. Если написано: «четыре действия», значит, играли четыре действия с тремя антрактами. Спектакль тянулся до ночи. Сердобольные гардеробщицы в перерывах меня жалели:
– Шёл бы ты домой, мальчик. Спать пора.
Но я упрямо досидел до финала, пока несчастный жених не стрельнул из пистолета.
Вообще-то, я театр уже давно слышал по радио. Такая большая, черная тарелка стояла у нас на шкафу. Винтик «тише-громче» не работал, к тому же вилка в розетке у нас была загорожена шкафом. В общем, выключить радио было невозможно, оно работало от утреннего гимна до ночного. Я привык делать под радио уроки и даже маме с ее чутким сном радио не мешало.
Такое принудительное слушание радиопередач оказалось довольно полезным. Я узнавал много интересного. Бог с ней, с идеологией, ее и повсюду было через край. Зато по радио выступали самые замечательные артисты. Это же была аудитория на всю страну, как сейчас телевидение. Музыка, песни перемежались стихами и замечательной прозой. Ставились мастерские радиопередачи, вроде «Клуба знаменитых капитанов», «Звездного мальчика», «Оле Лукойе», много сказок, инсценировок русской и даже зарубежной классики. Наконец, по радио передавали записанные прямо из зала спектакли, эстрадные концерты с популярнейшими конферансье Мировым и Новицким, транслировались даже оперы из Большого театра. Передачи занимали весь вечер с последними известиями в антрактах. Казалось, тому же «Ивану Сусанину» не будет конца, и я засыпал под звон колоколов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: