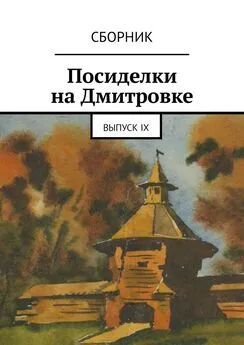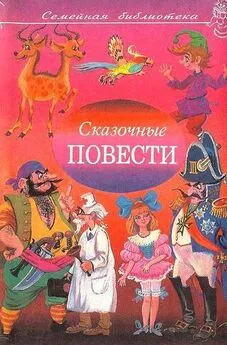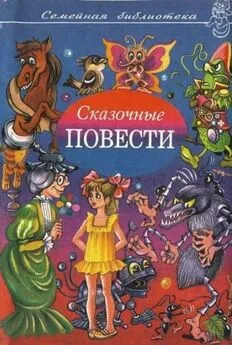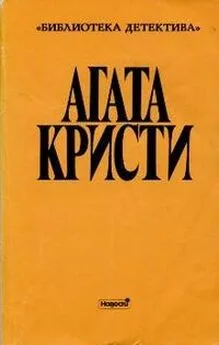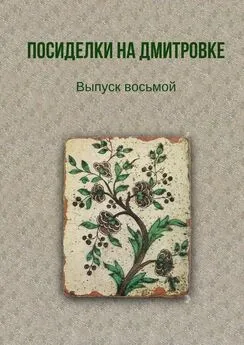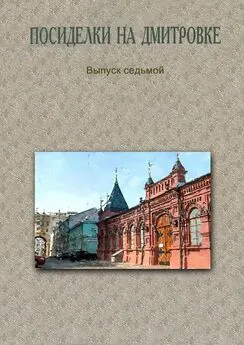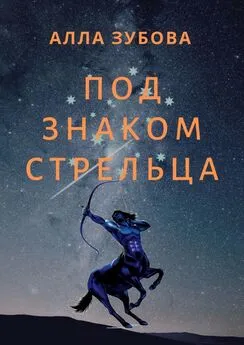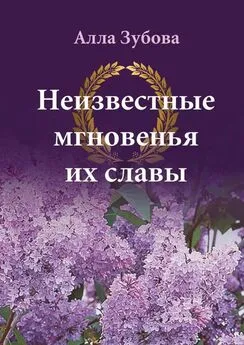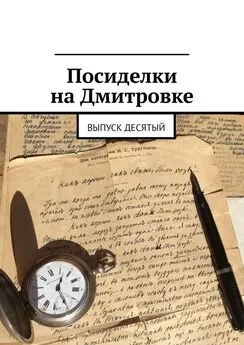Алла Зубова - Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449338846
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Зубова - Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый краткое содержание
Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У меня только по линии отца родственники – коренные москвичи, а маму отец сосватал в нашей деревне. Мама окончила сельскую школу и больше не училась. Она была старшей из шести выживших бабушкиных детей, так что пришлось быть и нянькой, и главной помощницей по хозяйству. Ей достались все лучшие качества, накопленные поколениями семьи: красота, глубокий, чистый голос и золотые руки – она лучше всех пекла, солила, мариновала, готовила не только вкусно, но и как-то очень красиво. У мамы, как все признавали, была «легкая рука» – что бы она ни сажала, все бурно росло, цвело и созревало.
Но в Москве она оказалась, не имея никакой специальности. Вот они стоят в полный рост на фотографии 1927 года: отец, Матвей Степанович, в строгой рубашке, ворот застегнут, на рукавах запонки, и мама, Татьяна Николаевна, в светлом платье, скрывающем беременность – через некоторое время на свет появился мой старший брат. Позже наша родственница, профессиональный фотограф, устроила маму лаборанткой в фотоателье на Тверской улице, недалеко от проезда Художественного театра.
А потом я родился. Началась война, отца не взяли в армию по возрасту, он пошел в народное ополчение, получил под Москвой тяжелую контузию и долго лежал в госпитале. Вскоре после выписки отец был откомандирован в Округ железных дорог Дальнего Востока, где и застрял на целых семь лет.
Так и остались мы втроем – мама, бабушка и я (старший брат учился в Ленинграде).
Незадолго до этого закрылся фотосалон, и опять же один из родственников помог маме устроиться билетером в цирк на Цветном бульваре. Вот в цирке мама и проработала двадцать пять лет, до самой пенсии. Там она даже сделала «карьеру» – стала начальником цеха, в который входили все билетеры, контролеры и гардеробщики. А последние лет десять была ответственной «хозяйкой» директорской ложи.
Цирк в те годы был очень популярен, и в ложе бывали очень важные зрители, например, Екатерина Фурцева со своим мужем, послом в Югославии Николаем Фирюбиным. При такой должности ему не полагалась правительственная ложа, вот и следовала жена за мужем в простую директорскую.
В 1957 году маму от коллектива цирка даже избрали народным заседателем Народного суда Свердловского района Москвы. Была такая общественная служба – в течение двух лет отработать в суде, в порядке очередности, примерно месяц. Мама выполняла свой долг со всей серьезностью, и ее раза два переизбирали на новый срок. И тот низовой суд был довольно человечным, в основном рассматривали бытовые дела и даже выносили оправдательные приговоры.
У мамы был очень общительный и доброжелательный характер. Пока она была жива, я видел всех наших родственников, кого-то мы навещали, к нам приходили в гости. Некоторые ее деревенские подруги тоже в замужестве оказались в Москве, и все они часто встречались. А самая близкая мамина подруга, Вера Мельникова, достигла таких «высот», как работа в знаменитом тогда меховом комиссионном магазине на углу Петровки и Столешникова переулка. Она даже сумела устроить маме каракулевую шубку так дешево, что мама смогла набрать на нее денег (та же Вера и дала ей взаймы).
Наверное, то, что наше Трубино находилось сравнительно недалеко от Москвы и многие мужчины имели семьи в деревне, а в Москве работали, в общем, и обеспечило этому поселению некий городской налет. Особенно летом, когда приезжало много детей, становилось шумно, и большой пляж у моста на реке Протве заполнялся купальщиками. Я смотрю на старые фотографии маминых подруг: очень симпатичные женщины, со вкусом одетые, лица приведены в порядок, никаких следов деревенского простодушия.
В общем, мама работала в цирке – и все наши родные и знакомые стали туда ходить. Мама предупреждала на контроле, ее гостей пропускали, а уже в зале их как-то устраивали, на свободные места или на приставные стульчики.
Со временем мама подружилась с некоторыми своими коллегами из разных театров и принимала их у себя в цирке, а я, как «Танин сын», мог свободно ходить к ним в театр. Была у меня и еще одна возможность попадать в театры: директорская ложа цирка располагалась как бы на втором этаже и имела отдельный вход с улицы. Кроме нее на этаже размещался отдел массовых зрелищ министерства культуры. Постепенно я познакомился с нарядными чиновницами. Им было лень ходить на Центральный рынок, который располагался тогда рядом с цирком, вот они и просили меня покупать им кое-что к обеду. Мне это не составляло никакого труда, а дамы разрешали мне пользоваться театральной бронью: в их отделе на столике всегда лежала кучка билетов в театры, и за полчаса до начала спектакля я мог даром выбирать любой.
Культурная жизнь Москвы была очень наглядной и интересной. Стены домов сплошь обвешивались щитами с афишами спектаклей, концертов, выставок, лекций, творческих вечеров. Сводные афиши театров дробились на репертуары отдельных храмов искусств и даже на программы конкретных спектаклей: кто кого играет и какого числа. То есть, спеша по делам, человек попутно мог узнать много интересного. Это сейчас в Москве прячутся сотни две театров, тогда их было в десять раз меньше, все располагались в центре города и были известны во всех подробностях. В Москву стекалось все самое интересное. Я попал на концерты таких легенд, как Изабелла Юрьева и Александр Вертинский – на сцену ЦДРИ вышел высокий, прямой старик и сначала удивил, а потом заворожил публику непривычной картавостью, изысканностью речи, выразительностью рук, которые казались огромными и находились в непрестанном, плавном движении.
Зарубежные артисты приезжали редко, но всегда это было что-то особенное. Перуанская дива Има Сумак выступала в зале Чайковского. В первом отделении она вышла вся в перьях, сверкающая, с огромными раскрашенными глазами. Когда она пела «Гимн Солнцу», голос переходил в какое-то уже нечеловеческое звучание. Писали, что у нее диапазон – пять октав. Но она владела и обычной манерой исполнения – во втором отделении на сцену вышла симпатичная брюнетка, приятным голосом она пела латиноамериканские песни.
В институтскую пору мне очень нравилась певица Алла Соленкова, и я старался попасть на все ее выступления, их было немного, три – четыре в год. Она отличалась красивым, звонким голосом с очень чистой и приятной дикцией. Выступала всегда без микрофона. По радио тогда часто передавали в ее виртуозном исполнении «Соловья» Алябьева. Верхом признания вокального таланта было тогда приглашение в Большой театр. Соленкова там числилась два года, но пела мало, из главных партий только Снегурочку, Марфу и Джильду. Я слушал её в «Вертере», в маленькой роли сестры героини. В тот вечер со сценой прощался великий Сергей Лемешев. В свои шестьдесят лет он был полноват для юного героя, но голос оставался молодым. Поклонницы в слезах кричали, хлопали и заваливали сцену цветами. В Большом театре как раз был период, когда корифеи постарели и располнели, особенно женщины, так что молодая и тоненькая Соленкова пришлась не ко двору. С 1958 года она стала солисткой московской филармонии, год стажировалась в «Ла Скала» и очень успешно гастролировала в США и Японии, но в нашей прессе об этом не сообщалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: