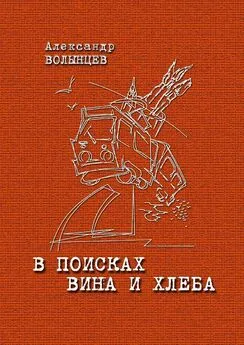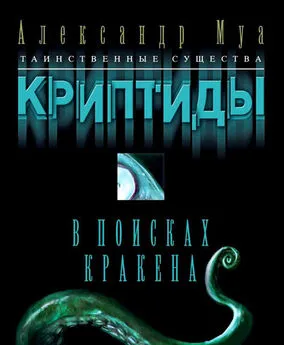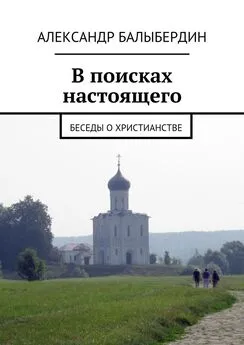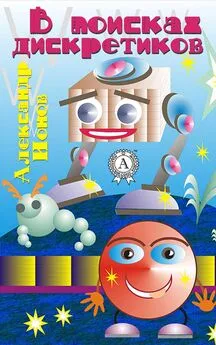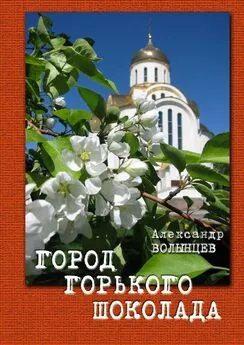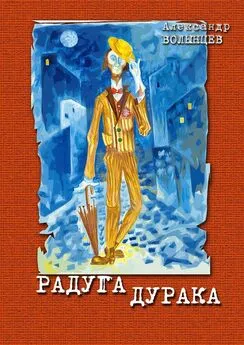Александр Волынцев - В поисках Вина и Хлеба
- Название:В поисках Вина и Хлеба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448394645
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Волынцев - В поисках Вина и Хлеба краткое содержание
В поисках Вина и Хлеба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сеанс дал неожиданный эффект: в замполите стали видеть воплощение НКВД, ВКП (б) и лично товарища Берия. Армия, кузница патриотов и верных ленинцев, где-то дала сбой: то ли молот поизносился, то ли наковальня порасплющилась, то ли исходный продукт не той марки пошел, но… Чрезмерно усердное замполитово стремление воспитать нас «преданными делу партии» дало обратный результат: никто из нашего призыва не обзавелся «красным билетом», хотя в армии сделать это было значительно проще, чем на гражданке…
Сережка
Между теми, кто вместе постигал премудрости выживания в армейских условиях, еще в «карантине» установилась какая-то странная, почти родственная связь: неслучайно друг друга у нас называли «братан», «братуха», «братишка». (Это потом, спустя годы, слово «братва» получило бандитский привкус, а тогда…). Видимо, ничто так не сближает, как совместное противостояние трудностям, бедам, опасностям…
Служил со мной с первого дня парнишка из Северодвинска Сережка Белозёров. После присяги нас разбросали по разным подразделениям: меня – в одну из рот, его – в отделение радистов водителем…
Дедовская иерархия была довольно строгой: припахивать новобранцев на различные работы позволялось только внутри своего подразделения, а если кто хотел по необходимости «прихватить» «чужого» молодого бойца, то следовало договориться с «родными» дедами, но такое бывало нечасто.
На радиостанции, где служил Сережка, дедов было полторы штуки, в связи с чем он, по-моему, испытывал некий комплекс вины перед нами, так как у нас дедов было больше и «шуршать» приходилось активней. Чего греха таить, ему немножко завидовали по этому поводу. Но он был добр и старался помочь если не делом, то хотя бы словом (а в армии слово – великое дело). Его вовремя сказанное добродушное (и словно извиняющееся за собственное относительное «благополучие») «все образуется» много раз становилось единственной поддержкой на грани отчаяния…
Время шло. С каждым месяцем наши глаза становились веселей, ремни – свободней, а дембель – ближе…
Когда мы отбарабанили год, Сергею дали отпуск по поводу похорон его родственника. Вернулся из дома более грустным, чем уезжал: и повод для поездки нерадостный, и после нескольких дней «воли» возвращаться обратно – удовольствие ниже среднего… Но на него тут же набросились с расспросами: «Как там? Что носят? Что слушают?». Новости свободы «из первых рук»…
…В августе 1987 года мы были уже почти дедами. Однажды я стоял в суточном наряде дневальным, а Сергей готовился на выезд (свозить нескольких наших бойцов по каким-то хозяйственным нуждам). Вдруг он попросил меня спеть. Мы зашли в батальонную ленинскую комнату, я достал гитару и затянул из Высоцкого:
За меня невеста отрыдает честно,
За меня ребята отдадут долги…
Посидели, помолчали. Потом его вызвали к машине, и он уехал.
Часа через полтора сообщили, что он утонул. Я услышал, но не сразу понял. Не хотел понимать. Потому что этого не могло быть. Исключено. Невозможно…
Все оказалось трагически пошлым. Когда возвращались – решили искупаться. Сергей плавать не умел и в глубину не лез, но… Когда заметили, что он как-то странно барахтается, его вытащили. Он уже не дышал. Искусственное дыхание толком делать не умел никто, включая сопровождающего прапорщика…
Когда приехала «скорая», врач сказал, что если бы сразу была оказана помощь, то…
На следующий день нас всех (и солдат, и офицеров) обучали делать искусственное дыхание.
«Что, козлы, закопошились?» – высказался я в пространство. (В расписании занятий у нас была графа: «медицинская подготовка», только в это время мы, как правило, убирали территорию, грузили кирпич, чистили оружие или бронетехнику, на которой выезжали раз в полгода).
«А нехрен было в воду лезть, не на курорте!» – отреагировал зампотех.
«Причем тут? Да у нас, вон, в парке в пожарную яму упасть можно! И что?» – удивился я неадекватности капитана.
«А тебе с твоим ростом там утонуть не грозит!» – гыгыкнул зампотех.
«Придешь ты ко мне на пост», – многообещающе пробурчал я себе в усы.
У ротного оказался хороший слух: месяц меня потом в караул не ставил. «На всякий случай».
Перед отправкой тела в Северодвинск нам милостиво было позволено с ним попрощаться. Не знаю, как назвать то чувство, которое я испытал, когда увидел Сергея, втиснутого в узкий и короткий цинковый гроб: плечи приподняты, ноги согнуты в коленях, лицо в черных и коричневых пятнах… Хотелось выть и стрелять, стрелять, стрелять… В воздух; в цистерны склада ГСМ; в боксы с техникой; в этих, по какому-то недоразумению именующих себя «офицерами»… Но армейская безответственность коллективна, часто не виноват никто конкретный, виновата система в целом… А всю систему не расстреляешь – патронов не хватит.
«Мы ежегодно отправляем пять тысяч гробов!» – в сердцах как-то выкрикнул генерал, член Военного совета, на очередном собрании в нашей части, посвященном неуставным взаимоотношениям. Его слова подтверждать не берусь, но если он не соврал… Пять тысяч ежегодно – не из-за боевых действий, а из-за дедовщины, командирского самодурства, солдатской глупости, «поиска приключений» и огромного числа несчастных случаев… Кто за это ответит?
Курс похудания
Угаром интернационализма нас никто не травил, наверное, поэтому мы были лишены сладости межэтнических конфликтов.
…Татарин с грозным античным именем Марс (и к тому же на момент описываемых событий – дедушка Советской Армии), проходя мимо тумбочки дневального, посмотрел на меня, дневалившего в тот день духа, и спросил: «Э, ты чё?».
А я чё? Я ничё… У меня тихо ехала крыша, казарма перед глазами трансформировалась затемпературенным сознанием в картины комиссации через 16-е отделение (отделение госпиталя, иначе именуемое «дурка»).
«Ну-ка, пошли…» – дедушка уцепился за мой духовской ремень и поволок в медпункт на буксире.
Фельдшер-туркмен Байрам флегматично сунул мне под мышку градусник, через мгновение выудил обратно и выпучил глаза.
«А?» – Марс заглянул через плечо Байрама.
Фельдшер помахал по воздуху градусником, словно намеревался вытряхнуть из него ртуть, и снова запихнул мне его под мышку.
«Э? Ты чё? Не веришь, что ли?» – возмутился Марс.
«Пагади, э?» – отмахнулся Байрам.
Снова вдвоем уставились на шкалу в очередной раз выловленного градусника. Фельдшер смачно, по-русски, но с богатым акцентом, выматерился.
«И-и… Укол делат нада… Сипирту – нэт… Табилэтка – нэт… Э, сылушай, иды койк ложис, да?»

Я покорно прошлепал к своей койке и хлопнулся в нее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: