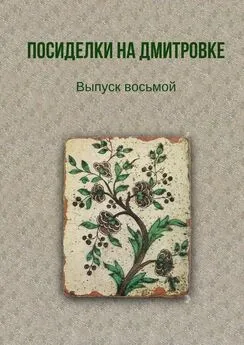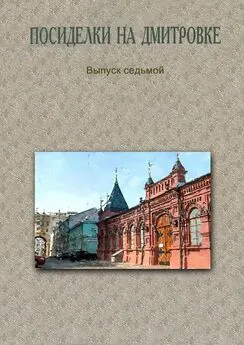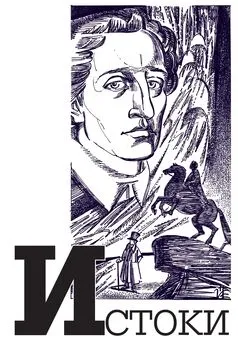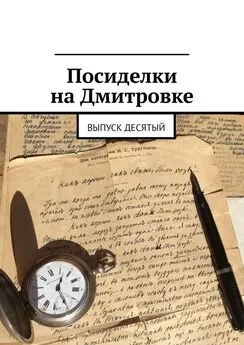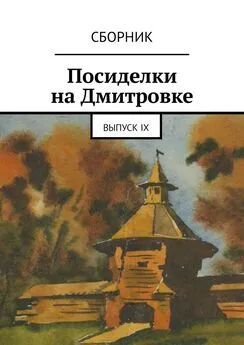Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-7236-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой краткое содержание
Особой темой в книге проходит война, потому что сборник готовился в год 70-летия Великой Победы. Много лет прошло с тех пор, но сколько еще осталось неизвестных событий, подвигов.
Сборник предназначен для широкого круга читателей.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Почти каждый раз, когда меня упрекали в невероятности описанных событий, – события эти бывали взяты целиком из жизни» – это слова удивительной писательницы Тэффи. Давний интерес к ней и привел меня сюда. Надежда Александровна, Наденька Лохвицкая, жила на Новинском бульваре, в семидесятые-восьмидесятые годы позапрошлого века.
«И я хорошо знаю, какая я была. Когда мы спускались по парадной лестнице, на площадке в большом зеркале отражалась девочка в каракулевой шубке, белых гамашах и белом башлыке с золотым галуном. А когда девочка высоко подымала ногу, то видны были красные фланелевые штаны. Тогда все дети носили такие красные штаны. А за ее плечом отражалась такая же фигурка, только поменьше и пошире. Младшая сестра.
Помню, мы играли на бульваре, все такие маленькие девочки. Остановились как-то господин с дамой, смотрели на нас, улыбались.
– Мне нравится эта в чепчике, – сказала дама, указывая на меня.
Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас же сделала круглые глаза и вытянула губы трубой – вот, мол, какая я чудесная <���…> Я, значит, была честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. Честолюбие – сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, пожалуй, проорала что-нибудь на весь мир. <���…>
И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, будто льют воду из узкого флакончика, и вода пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топать ногами. И мокрый песок блестит хрусталиками, как мелкий сахар, так что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напитались воздухом. А сбоку, у дорожки, тонкий зеленый стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кружатся барашками. Как на картинке в моей книжке про девочку Дюймовочку. И воробьи суетятся, и дети кричат, и все это подмечается одновременно и безраздельно, все вместе, и выражается одним возгласом: «Не хочу домой!»
Это строки из пронзительного рассказа Тэффи «И времени не стало». Надежда Александровна включила его в свою последнюю прижизненную книгу «Земная радуга», вышедшую в Нью-Йорке в 1952 году. Рассказ с причудливым сюжетом: переплетаются сон, явь – то, что хранится в сердце всю жизнь и поддерживает в самые отчаянные минуты.
Какой гимн пропела она милому Новинскому бульвару! В отличие от ее родного Петербурга (там родилась, там обрела свое литературное имя Тэффи) с регулярными, сплошь каменными улицами и дворами-колодцами, патриархальная Москва тонула в буйстве зелени – сады, палисадники, бульвары…
От Новинского бульвара осталось лишь название. Еще в тридцатые годы прошлого века он утратил свою благодатную суть, стал частью напряженной автомагистрали, Садового кольца: асфальт, поток машин, ныряющих в туннель под Новый Арбат. Даже воображению не вернуть сюда липы или сирень, птичий гомон, не представить тонкий зеленый стебелек у дорожки, вылезший на волю по зову весны…
А вот Поварская сохранилась – с потерями, конечно, с нежелательными приобретениями – и пока не дает забыть о своем дворянском происхождении. Здесь прогуливались когда-то и Александр Сергеевич, и Михаил Юрьевич, и Николай Васильевич… Лев Николаевич сюда наезжал к баронам Боде – на балы и в приемные дни – в их старинную усадьбу, некогда принадлежавшую князьям Долгоруким. Ее ценность, историческая и культурная, растет с годами: она же из допожарной (!) Москвы. В 1812 году тут квартировали французы, и это уберегло от огня дивный дом с мезонином, портиками, примыкающими полукружьями дворовых служб – все по канонам русского классицизма. В центре круглого двора – памятник Толстому. Его волей дом попал в пространство «Войны и мира» и обрел известность как Дом Ростовых.
Долгие годы в нем размещалось правление Союза писателей СССР, призванное руководить литературой, и вполне символично, что напротив, через улицу, появился памятник Михалкову, одному из писательских «генералов», поэту, драматургу.
Памятник поставили рядом с угловым добротным домом, «сталинским», где Сергей Владимирович прожил большую часть своей долгой – век без малого – жизни.
Бронзовый, он удобно расположился на скамейке, в одной руке очки, в другой – трость. В нескольких метрах, на зеленом газоне – бронзовая девочка с букетиком бронзовых цветочков, подношением любимому поэту.
«В доме восемь дробь один…» «Мы едем, едем, едем в далекие края…» Не найти человека, который не продолжил бы эти строки. Великана дядю Степу, как и задорную песенку про счастье дружбы и радость дороги, любили дети тридцатых годов, шестидесятых, восьмидесятых… И сегодня любят и поют.
Памятник торжественно открыли к столетию Михалкова. Президент России держал речь. Говорил, что автор двух гимнов страны (разве не трех?) был преданным патриотом нашей великой родины. Его общественная деятельность и уникальное творчество – часть нашей истории и культуры. Он неизменно был на острие эпохи…
Хвалили и скульптора Александра Рукавишникова: человек на скамейке – значительный, и в то же время «такой простой, доступный, что хочется присесть рядом, будто и не он создал гимны». И вся композиция – поэт и девочка – «хорошо вписалась» в тенистый скверик между домом, где жил Михалков, и театром киноактера, хорошо организовала пространство.
Пространство – вещь… Нет, не так. Вспоминаю… Вот:
Время больше пространства.
Пространство – вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь – форма времени…
Не случайно приходят строки из «Колыбельной Трескового мыса». Их автор рядом. Надо сделать всего несколько шагов под деревьями, пересечь «уголок», чтобы оказаться на Новинском бульваре, у памятника Иосифу Бродскому, свободному, вольному, вызывающе вольному человеку – такой он тут. Стоит, засунув руки в карманы, запрокинув голову. Смотрит… В небо? В даль? («На Американское посольство», – всласть поупражнялись остряки: посольство почти напротив.) Поэт отрешен от дневной суеты. Но люди, несущиеся мимо в автомобилях, не могут его не заметить, он задевает, как любой вызов: «Кто такой?» Бродский! Памятник созвучен его ироничной интонации.
«Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?» Кажется, «Письма Римскому другу (Из Марциала)» обращены к нам. «Как там в Ливии, мой Постум, – или где там? Неужели до сих пор еще воюем?»
Скульптура Георгия Франгуляна неожиданна. Мы видим человека в профиль и не видим в фас – это рельеф. А обратная, вогнутая сторона, слепок с рельефной, – как зеркальное отражение портрета. Но непривычность, неожиданность у меня не вызвали недоумения или протеста, попросту не задумываешься о поисках художника – настолько выразителен образ поэта.
За главной фигурой, на большой, чуть возвышающейся над землей площадке из гранитных плит – две группы фигур-теней, совершенно плоских, без лиц. Мы все, как тени, пролетаем по жизни, кому-то удается выделиться «пропечататься», остаться, – так, насколько помнится (читала), определил сам скульптор замысел композиции. Когда смотришь на памятник с разных точек зрения, кажется, что фигуры перемещаются, общаются друг с другом. Можно встать на площадку рядом с ними. Уже не кажется, что толпа безлика. В ней видишь тех молодых людей конца пятидесятых-шестидесятых годов, которые бегали на выступления Бродского, тех, что толпились в народном суде Дзержинского района Ленинграда в марте 1964 года, в его коридорах, на лестнице, под дверями зала заседаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: