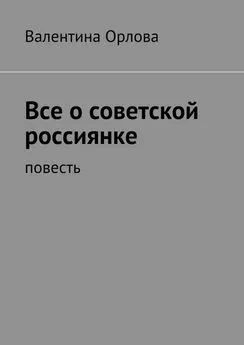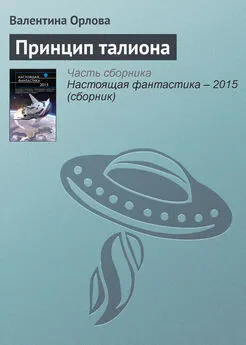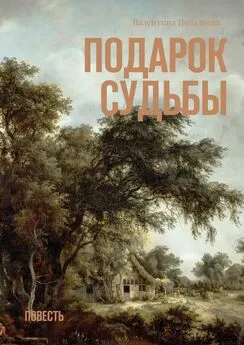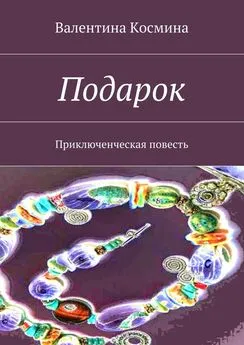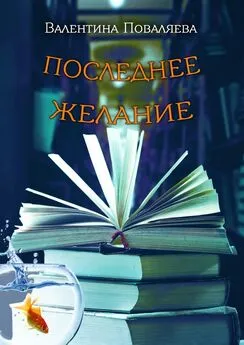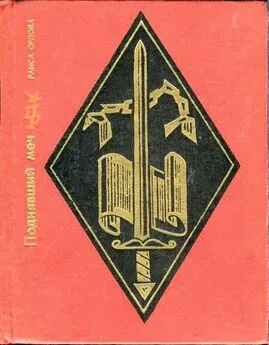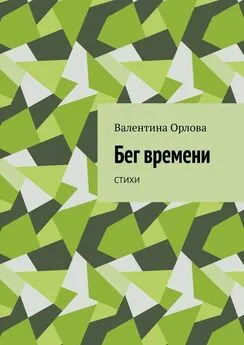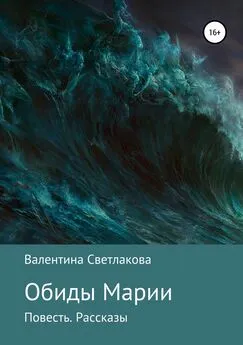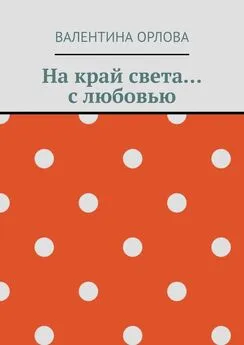Валентина Орлова - Все о советской россиянке. повесть
- Название:Все о советской россиянке. повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448326202
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Орлова - Все о советской россиянке. повесть краткое содержание
Все о советской россиянке. повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Улица по-прежнему была безлюдной. Сердце у Маришки колотилось часто-часто, но руку оттягивал тяжелый чайник с родниковой водой, поэтому в душе все ликовало, и страх прошел.
Глава 5
Прошло несколько лет, и весь юго-восток Татарии был разведан, и было понятно, где необходимо строить соцгород для нефтяников. Что представляли из себя послевоенные соцгорода? Это огромное количество бараков, куда вселялись люди.
Во дворе барака находилась уборная, рядом ящик для мусора, а еще сарайки с погребом для хранения картошки, капусты, а в самих сарайках держали кур, поросенка и даже коз с козлятами.
Полоска земли перед своим окном в бараке огораживалась, вскапывалась и появлялись грядки с луком и огурцами.
Каждую весну нефтяникам выделяли в поле вспаханную землю под посадку картошки. Эту землю разбивали заранее на участки и ставили деревянные колышки с фамилиями рабочих. В день посадки в конторе бурения выделяли огромный грузовик, который подъезжал к баракам. Каждая семья загружала в кузов свои мешки с семенным картофелем, затем размещались сами и ехали в поле, где сначала по колышкам с фамилиями искали свой участок, а потом начинали сажать. Где-то, к обеду, снова приезжал этот грузовик, и люди возвращались в его кузове обратно домой. Осенью убирали урожай, и так же грузовики ездили по полю и забирали по очереди и отвозили к баракам и мешки с картофелем и их хозяев.
При конторе бурения был ларек для своих работников, где все продавали мешками: муку, сахар, крупы, макароны. Осенью завозили в него в огромном количестве вилки свежей капусты, закупали ее нефтяники тоже мешками, затем засаливали на зиму и хранили в погребе в деревянных кадках. А ягоды и грибы собирали в близлежащих лесах.
Я не знаю, когда построили первый барак в нашем соцгороде, но мы переехали сюда из деревни, где, кстати, родился мой младший братишка Славик и где была поставлена последняя точка нашей «кочевой» жизни, когда мне шел уже шестой год.
Город мне понравился. Наш барак хоть и находился на самой окраине, но по центральной улице, которая была асфальтирована и по ней на Седьмое Ноября и Первое Мая проходили демонстрации. А еще на нашей улице находилось единственное красивое кирпичное здание Дома культуры имени Максима Горького со зрительным залом, куда по воскресеньям ходили мы, дети, на дневной кино-сеанс. Вокруг Дома культуры был сквер с летней танцплощадкой, а перед центральным входом находился киоск, где продавали газированную воду и мороженое, которое находилось в огромных флягах, наполненных кусками льда.
Школа, столовая, больница, магазин, библиотека – все это размещалось тоже в бараках.
Поначалу соцгорода так и назывались «соцгород», но потом их стало появляться в нашей стране в таком большом количестве, что их необходимо было как-то различать и называть.
Названия придумывали очень даже разнообразные: или город Октябрьский в честь революции по старому стилю или город Ноябрьский в честь той же революции, но только уже по новому стилю.
Поэтому назовем условно наш соцгород как город Октябрьский в честь революции по старому стилю.
В нашем бараке было двенадцать комнат: шесть с одной стороны, шесть с другой, а посередине барачный коридор, который убирали и мыли жильцы барака по очереди. В комнатах находились печки с плитой, топили печки дровами. Семьи, живущие в барачных комнатах, были молодые. Женщины, в основном, были домохозяйками с маленькими детьми. Каковы же были взаимоотношения моих родителей? Мы на протяжении всей жизни слышали, читали, видели в кино о храбрости и доблести солдат, воевавших на фронтах во время Второй Мировой войны, но как-то совсем не говорилось, с какой расшатанной психикой возвращались эти солдаты после четырехлетнего ада. Сложно было ожидать от них ровных, спокойных отношений с окружающими. Мой папа тоже не был исключением. Заводился с полуоборота. Естественно, дома все претензии были в адрес мамы; то еда пересоленная, то что-то вовремя не сделано.
Мама, в свою очередь, не спешила сломя голову исправляться, а тут же отвечала:
– Не нравится, делай сам.
– Если я буду все делать, то ты чем будешь заниматься?
– Пойду работать, а ты сиди с детьми.
И начинала упрекать папу, чем она «городская» счастливее своих деревенских подруг, которые вышли замуж за парней-односельчан и не болтались по разным деревням, по чужим углам.
Просто мама очень рано вышла замуж, не успев напугаться, что останется одинокой, поэтому и не ценила поступок папы, которому она сразу понравилась. К тому же ей и самой хотелось чего-то большего, чем быть просто женой, матерью, домохозяйкой, а для чего-то большего не было образования.
Когда мы приезжали летом к деду, мама и ему часто выговаривала, что мог бы он как-то помочь ей в свое время и отправить учиться в райцентр, где была средняя школа. Школа-то была, но райцентр находился в тридцати километрах от поселка, к тому же годы были военные, поэтому не только мама, но и никто из ее подружек в райцентре не обучался.
Да и в годы детства моей мамы образование в глухих деревеньках ассоциировалось с мужчинами, а не с женщинами. Учитель начальных классов, фельдшер – все это были мужчины. До революции в церкви вел службу образованный священник. Правда, была одна образованная женщина – дочь батюшки, которая после окончания епархиального училища обучала крестьянских мальчиков в церковно-приходской школе, но она была «поповка» и ей сам Бог велел.
Зато в годы раскулачивания крестьяне насмотрелись на грамотных стриженных девок, которые приезжали откуда-то из городов. Их прозвали «делегаткам», которые действительно были грамотные, но уж очень на передок почему-то слабые, и у всей деревни на глазах, без зазрения совести, таскались с местным начальством. Это была вторая причина из-за чего не стремились крестьяне обучать своих дочерей.
Теперь, после войны, времена изменились, но для мамы время для получения образования безвозвратно ушло.
Часто ссоры с папой мама заканчивал фразой:
– Успокойся, не сижу, не сижу сложа руки.
При всем желании сидеть «сложа руки» маме было невозможно. Воду надо было носить из колонки, стирка вручную, двое детей, которых не только купать, обстирывать и кормить, но еще и обшивать надо самой. Хорошо еще, что в приданое дед подарил ей швейную машину «Зингер».
Кроме повседневных дел, мама, как и другие женщины, находила время и на украшение нашей комнаты. Разноцветными нитками «мулине» вышивала гладью салфетки, «дорожки», которые вешались на стену, из белых катушечных ниток плела крючком кружева для накидушек и подзорников. Так женщины в те годы создавали уют в своих барачных комнатах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: