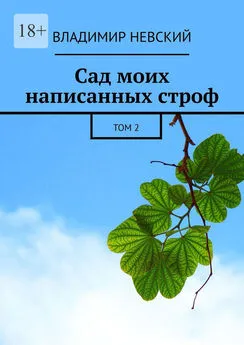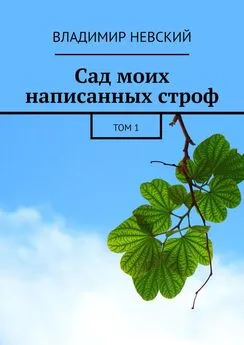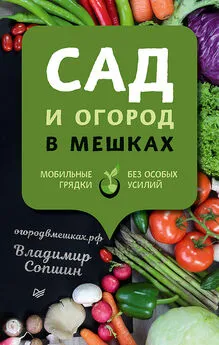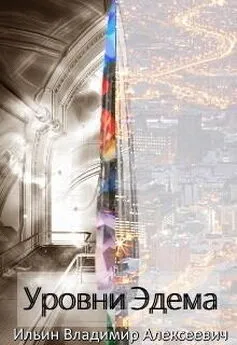Владимир Данчук - В садах Эдема
- Название:В садах Эдема
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Родное пепелище»
- Год:2010
- Город:Самара
- ISBN:978-5-98948-027-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Данчук - В садах Эдема краткое содержание
«В садах Эдема» – книга о семье, о детях, построена в форме дневника, светом детской невинности проникнуты все, от первой до последней, страницы. Однажды Ф. М. Достоевский заметил, что «рядом с детьми душа лечится». А Господь наш Иисус Христос сказал о детях, что «таковых есть Царствие Небесное». Отсюда – идея и название книги.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
В садах Эдема - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Пойгём, – сказала Лизанька, вся пылая, – пойгём в кваю комнаку, я кибе про Господа расскаху…
Прочитав эту запись, Олечка дописала: «Как-то Лизанька залезла под стол, села там, развернула маленькую книжечку и стала „молиться”. Бабушка сидела на диване с Иванушкою на руках.
– Молись со мною, – предложила Лизанька.
Бабушка отказалась.
– Не будех? – угрожающе спросила Лизанька. – Вот ум’ёх, кибе бугик очень п’охо».
«Усыпляю» Лизаньку – сидя за письменным столом, подтащил к себе кроватку, куда время от времени бросаю строгие взгляды. Лизанька лежит на спинке, лениво закрывает и открывает глазки, вздыхает, шевелится; прищурив глазки (чтобы я думал, что они закрыты), играет ручками перед личиком; иногда принимается что-то горячо шептать. Но всё тише шёпот, всё невольней движения, личико разглаживается, глазкам уже не под силу открыться… И я, тоже шёпотом, говорю: «Положи ручки…» Вздохнув, она роняет их себе на грудь и – спит.
Сегодня она сказала:
– Чевавек хэ нес’егобный!.. (человек же несъедобный)
На прогулке:
– Мегвег? А, мегвег? – зовёт меня Лизань ка. – Ты почиму так биско (быстро) игёшь? Ты же мегвег! Иги вахно, мегленно…
Я иду важно, медленно.
– Ну, вок так!.. И я, медвехонок, тохе игу вахно и мегленно.
– А луну мохно скухать?
– Как же ты её достанешь?
– Мохно лесенку сделать.
– Хм. А как её сделать?
– Взять гве палочки, пеек’адинку п’ик’епить… (перекладинку прикрепить)… и топ-топ на небухко… Луна хэ не гоячая?
– Ннет…
– А солныхко?
– Солнышко горячее.
– А я его съем!
– Так обожжешься!
– Нек, я хэ его оскудю… Погую (подую): фу-фу…
– Ловко. Но надо опять лесенку делать.
– Нек, ук’ом (утром) солныхко хэ низко, его мохно – хвать!
Бабушка делает Лизе салат и всё время говорит «помидорка».
– Помидой, – поправляет Лизанька.
– Ну, помидор, – соглашается бабушка.
– Ты азве не знаех, как нада гаваить?
– Знать-то знаю, да я старенькая – забываю…
– А ты не забывай! Гаваи п’авийно.
Я погружён в «Историю Русской Словесности» Шевырёва; теории тут немного, зато даже известные факты освещены с непривычной и любопытной стороны – русского человека, который даже и не подозревает, что у него могут быть две родины; я не могу избавиться от чувства зависти к тем людям, к их уверенности в бытии своей земли…
У Григорьева вычитал, что немецкий национализм (уже с языческим, «нацистским», уклоном) родился на полстолетия раньше, чем я предполагал: «Клопшток и его друзья возобновляли клятвы древних германцев перед Ирминовым дубом…» Конечно, это было только зерно, которое начало прозябать лишь с 1805 года, когда немцы внезапно стали французами (как Гейне, например), а в 1819 году дало первый цвет, бледность которого тут же окрасилась кровью и ознаменовалась ненавистью к России.
Только что пришли с прогулки. Во дворе встретили бабушку, и, пока я заносил её сумки, Лиза с бабушкой провела очередную воспитательную беседу. Возвращаюсь – бабушка смеётся:
– Слышь, Володя, что Лиза говорит?.. Не плюй на землю, говорит, она священная.
Пока не стемнело, каталась на велосипеде и сочинила песню:
Не упасть! Не упасть!
Под махыну не попасть!
Я было поправил:
Как бы Лизе не упасть,
Под машину не попасть!
– Нек! – закричала она. – Не так!
Шкобы, шкобы не упасть,
Под махыну не попасть!
Стемнело. Велосипед я занёс домой.
– Погуляем, Лизанька, ещё?
– Га!
– Куда же пойдём?
– В тёмный ес (лес), где мегведи…
Это значит – на площадку в соседнем дворе.
– Кам полянка есь, – сочиняет она по дороге, – кам цветы аскук (растут) и ягоги…
– Ну, ягод-то, пожалуй, уже нет…
– Нек, кам есь! кам есь!
– Так осень же уже, Лизанька!
– А кам – леко (лето)!
– Что за странная такая полянка? Везде осень, а там – лето…
– А знаех, почиму кам леко? Знаех?
– Н-нет…
– Покамухко кам – юг! – выпаливает она.
Возвращаемся. Жалобно:
– На учки…
Я вздыхаю, но подхватываю её:
– Ты уже такая большая девочка, Лизанька, а всё просишься на ручки. Объясни мне, отчего тебе так нравится «на ручках»?
Она устраивается поудобнее, обнимает меня за шею:
– Пакамухко я кибя (тебя) на учках госкаю (достаю)… Я кибя пакамухко очинь поюбила…
– Когда же это ты успела?
– Сиводня…
– А вчера?
– И вчера тохэ, навейно, поюбила…
Дочитал Кафку на немецком и очередную статью Григорьева (о Толстом). Все три романа Кафки неокончены; давно я так не скучал, читая немецкий текст. По истолкованию Брода, в «Процессе» и «Замке» представлены две формы Божества, т. е. две формы Его явления миру – Суд и Милость («в смысле Каббалы»). Возможно. Но мистика оккультизма, по своей выдуманности, может быть, и имеет какое-то значение для изучения степеней помрачения личности, но для творчества – это мертвящее дыхание распада. Поразительна подробность бессмысленных монологов, их механическая занимательность. Эффект некоего впечатления (странности? кошмара? наваждения?) достигается соединением полной абсурдности происходящего с суховатой простотой и обыденностью языка, вплоть до канцелярской незаинтересованности. Эффект есть. Несомненно. Но это не литература, это – диагноз. Эти «писания» можно закончить в любом месте, или продолжить до бесконечности – эффект будет тот же. Можно было бы назвать такие «письменные упражнения» игрою, подобно забавам декадентов, но все игры кончаются за порогом больничной палаты, в которой мечется умирающий.
Зато подобно живой воде показалась мне после Кафки статья Григорьева, не менее неистового, чем пресловутый Виссарион… нет, скорее, страстно сдержанного… или нет: пишущего с едва удерживаемой страстью (почему-то Григорьев мне всегда представляется взлохмаченным, в распахнутом длиннополом пальто, с полуразвязавшимся галстуком).
«В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования /вот! – стремление и путь русской словесности!/ всякого стремящегося ожидают два подводных камня: отчаяние от сознания своего собственного несовершенства, из которого есть ещё выход, и неправильное, не прямое отношение к своему несовершенству, которое почти совсем безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению; задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полною, беспощадною справедливостью. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушение несравненно более тонкое и опасное, именно – преувеличить свои слабости до той степени, на которой оне получают известную значимость и, пожалуй, даже, по извращённым понятиям современного человека, величавость и обаятельность зла».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
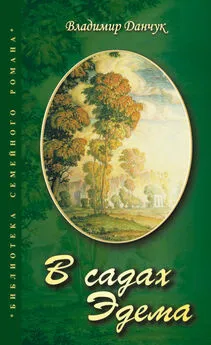

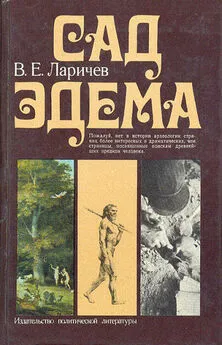
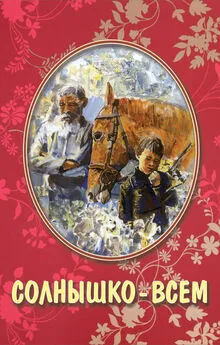
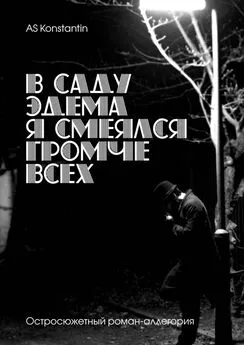
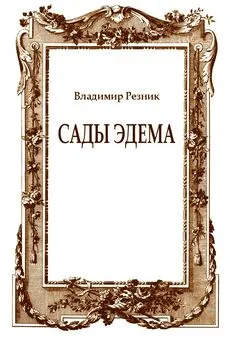
![Владимир Ильин - Уровни Эдема [СИ]](/books/1102771/vladimir-ilin-urovni-edema-si.webp)