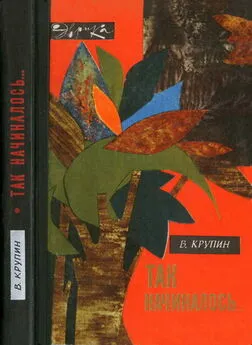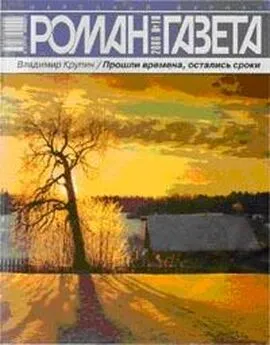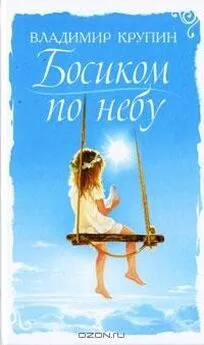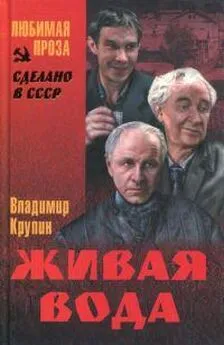Владимир Крупин - Так начиналось…
- Название:Так начиналось…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Крупин - Так начиналось… краткое содержание
В повседневную жизнь входят атомные станции и космические корабли.
В самой науке возникают новейшие отрасли, достижения которых поражают воображение: радиационная селекция, космическая медицина; в моде кибернетика и полимерная химия.
Казалось бы, традиционные науки — ботаника, энтомология, лесохимия — должны сдать позиции. Напротив. Новейшие области знания заставили человечество по-иному взглянуть «на старину». В ней тоже происходят революционные изменения. В начале XX века наука заново открыла Менделя. Сегодня мы заново открываем для себя Николая Вавилова, Сукачева и Калниньша. О них — о революционерах в науке, о союзе науки и революции рассказывается в этой книге.
Так начиналось… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более всего своим Н. Вавилова считают генетики. Это понятно. Как никто другой, Николай Иванович сделал много для генетики в нашей стране, организуя широкий фронт исследований в этой области и используя данные генетики для выяснения общих закономерностей биологии. Вавилов был биологом широкого профиля. XX век знает не так уж много ученых, которые имели бы достаточное право в своей анкете, в графе «специальность» поставить два слова «общая биология». Эта специальность появилась где-то на переломе науки, примерно в начале двадцатых годов, когда Н. К. Кольцов начал читать в Московском университете курс общей биологии. Но дело не в названии, не в форме (хотя и в форме тоже), а в существе науки, которая претерпевала глубокие качественные изменения.
Биологом еще в начале XIX века мог назвать себя, пожалуй, каждый ученый, который изучал проявления жизни. Но потом началась все убыстряющаяся специализация. Наука шла вглубь, вникала в детали дела. Биология разветвлялась. Морфология. Цитология. Физиология. Бактериология. Фитопатология. Генетика. Биохимия… На каком-то этапе — биометрия.
Каждая из этих наук брала только один пласт жизни, не особенно вникая в то, что делают коллеги справа и слева. Но огромное количество фактов, накопленных каждой из наук, готовило качественный скачок в общей биологии, в познании человеком общих биологических закономерностей.
Обобщить сумму фактов должны были не узкие специалисты в какой-то отрасли, а ученые широкого профиля. Это не значит, конечно, что они должны были заниматься «верхами» наук. Напротив, глубокое знание одного-двух узких направлений помогало им подняться до крупных обобщений и выдвинуть серьезные прогнозы, чтоб наметить новые пути вперед.
Вот тогда-то классическая биология, обогащенная достижениями новых наук, и передвинулась на более высокий уровень.
Отбиваясь однажды от нападок своих оппонентов, Николай Иванович сказал о своей работе очень точно и очень достойно:
— Есть закон усложнения. Такую закономерность я подхватил и от нее отказаться не могу, ибо это есть факт. Но она не одна, ибо есть наряду с ней — по многим комплексным физиологическим и количественным признакам — и обратный процесс. Я изучал, экспериментировал в этой области больше, чем кто-либо, и материал весь генетически изучил. И не случайно именно с генетикой у меня такой контакт, хотя я сам растениевод. Я патолог растений прежде всего.
Итак, воспользуемся самохарактеристикой Н. И. Вавилова. Растениевод, пользующийся инструментарием генетики, и патолог. Забегая вперед, сделаем некоторые предварительные выводы.
Именно углубление в фитопатологию — сравнительно молодую науку о болезнях растений — помогло Вавилову постичь некоторые общие закономерности биологии.
Но, изучая отклонения в жизни растений, ученый не мог не задавать себе вопроса: а как они возникают? Чтобы установить происхождение болезней: указать, почему у одного сорта пшеницы есть иммунитет к ржавчине, а у других нет, как и почему передаются, наследуются недуги и жизнестойкость, — Вавилов должен был обратиться к данным бурно развивавшейся молодой генетики — науки о наследственности. И тут он получил выводы, которые позволили ему новыми глазами — так сказать, и в ширину и в глубину — взглянуть на растениеводство, свою основную специальность.
Н. Вавилов обладал обостренным чувством нового. Мимо его внимания не проходил ни один росток направлений в науке, которые имели хотя бы косвенное отношение к главному делу его жизни — растениеводству. И само собой разумеется, что он внимательно следил за прямыми соседями и коллегами — за микробиологией и экологией растений, за ботаникой и биогеографией.
Первая крупная работа ученого — «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Как ни худо было с бумагой в 1919 году, но Д. Н. Прянишников (тогда руководитель Петровской сельскохозяйственной академии) нашел возможность напечатать этот труд в «Известиях» Петровки.
Заметим, что 1919-й был урожайным на издания, которые открывали какие-то рубежи в науке.
В Саратове вышла книга Н. И. Суса «Защитное лесоразведение», обобщавшая первый опыт лесомелиорации в сухих степях Поволжья.
В Петрограде издаются «Растительные сообщества» В. Н. Сукачева.
В Житомире, в журнале «Хозяйство Волыни», появляется статья за подписью Адичкина о химической обработке дерева. Ее автор — будущий отец лесохимической науки А. Калниньш.
Не без участия Ленина сызнова издается «Обновленная земля».
Труд Вавилова был итогом длительных наблюдений (с 1911 по 1918 год).
Учение об иммунитете представляло тогда «скромную главу фитопатологии, не всегда находимую даже в руководствах по болезням растений». Такой увидел нарождавшуюся отрасль науки Николай Иванович. Здесь можно было развернуться и сказать свое слово. Но не это привлекло главным образом внимание молодого естествоиспытателя.
Иммунитет (стойкость или, напротив, подверженность растений к заболеваниям) — это уже общая биологическая закономерность. И всякое новое слово на этой тропинке науки могло бы подсказать кое-что биологам вообще.
И еще: изыскания в этой области нужны были практике, нужны были деревне, крестьянскому хозяйству, ослабленному войной и со скрипом выбиравшемуся из трудностей.
Вавилов начинал практически с нуля. Начинал с овса, с пшеницы, ибо здесь болезни наносили ощутимый ущерб. Одна ржавчина неизменно съедала десятую часть урожая.
Прежде всего предстояло навести учет, привести в систему все, что известно о болезнях хлебов. Ржавчина — это не одна болезнь, как поначалу кажется земледельцу. Она и линейная, и корончатая бурая, и стеблевая… У каждой — свой возбудитель. Но если приглядеться внимательнее, то возбудитель стеблевой ржавчины не один. Их — 150! И каждый ведет себя по-разному. Один паразит поражает какой-нибудь определенный сорт, другой его не трогает.
А сколько сортов хлеба надо разложить по полочкам и привести в систему?! У овса — 350 диких и культурных сортов. У пшеницы и того больше. На селекционной станции Петровки, где Вавилов работал под руководством «дедушки русской селекции» Д. Л. Рудзинского, коллекция пшениц насчитывала около 1000 номеров! Здесь он понял на собственном опыте, насколько важно привести в порядок сортовое разнообразие. Вкус к систематике культурных растений помог позднее Н. И. Вавилову подняться до таких обобщений, которые имеют значение для всей биологии.
Коллекция Петровки, несмотря на свое разнообразие, не давала ответа на многие вопросы. Начать с того, что только две формы (из 350) овса оказались устойчивы к линейной ржавчине. Из 577 номеров пшеницы, искусственно зараженных во время опытов бурой ржавчиной, только 9 остались здоровыми. Почему? Если в коллекции есть устойчивые сорта, то, может быть, стоит поискать и другие такие же в природе? Если урожайный сорт твердой пшеницы подвержен болезни, а мягкая пшеница имеет иммунитет, не скрестить ли их? Может быть, гибрид унаследует от каждого из родителей лучшие качества? И существует ли наследственность иммунитета при гибридизации?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: