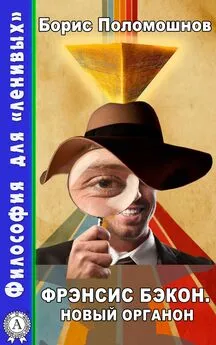Жиль Делёз - Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения
- Название:Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жиль Делёз - Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения краткое содержание
Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Предлагаемый перевод выполнен по первому изданию. Не имея возможности воспроизвести авторский отбор иллюстраций, мы выбрали и разместили на вклейках те из них, о которых Делёз говорит наиболее часто и подробно. При этом ссылки на репродукции (по первому изданию) сохранены в полном объеме.
«Логика ощущения»—единственная работа Делёза, посвященная изобразительному искусству, и, волею случая, первое монографическое исследование творчества Бэкона на русском языке 4. Мы сочли уместным кратко представить художника, тем более что обстоятельства его жизни Делёз оставляет за рамками своего повествования.
Фрэнсис Бэкон родился 28 октября 1909 года в Дублине, в небогатой английской семье, считавшей одним из своих дальних предков тезку живописца—выдающегося философа и государственного деятеля XVII века. Отец Бэкона, отставной военный, занимавшийся разведением скаковых лошадей, воспитывал сына исключительно сурово, невзирая на рано проявившуюся у него тяжелую бронхиальную астму. Их отношения навсегда испортились в 1922 году, когда Бэкон-старший обнаружил пристрастие Фрэнсиса к переодеванию в жен-
3 Gilles Deleuze, «La peinture enflamme l’écriture», p. 171.
4 B 1988 г. в Москве состоялась персональная выставка Бэкона, по случаю которой был издан каталог со статьями лорда Гаури «Фрэнсис Бэкон» и Михаила Соколова «Трагедии без героя. О живописи Фрэнсиса Бэкона» (Фрэнсис Бэкон. Живопись, Каталог выставки в московском ЦДХ в сентябре 1988 г., М., Британский Совет; Галерея Малборо, 1988).
ские костюмы,—одно из первых проявлений его гомосексуальности. Четыре года спустя, после очередного инцидента, юноша был изгнан из дома.
Несколько последующих лет Бэкон провел в Берлине и Париже, где соприкоснулся с новейшими культурными веяниями и испытал, по собственному признанию, одно из главных в своей жизни художественных впечатлений, посетив в 1927 году выставку рисунков Пикассо. Именно тогда он решил серьезно заняться живописью, и Пикассо навсегда остался для него единственным ориентиром в современном искусстве. Художественного образования Бэкон не получил, и вообще, из-за болезни и частых переездов семьи все его обучение ограничилось полутора годами, проведенными в частном интернате. В Париже он попробовал себя в качестве дизайнера интерьеров, и по возвращении в Лондон (в конце 1928 или начале 1929 года) эта профессия стала для него источником заработка.
В 1930-е годы Бэкон много пишет, без особого успеха выставляется (одна из неудачных выставок в 1933 году приводит его к решению уничтожить свои работы), завязывает знакомства в лондонских художественных кругах и при этом, одержимый страстью к игре в казино, пользуется каждой возможностью, чтобы вновь отправиться на континент. Первая картина, которая привлекла к нему внимание галерей и критиков, относится к 1944 году. Это «Три штудии предстоящих Распятию», отмеченные явным влиянием Пикассо и вместе с тем демонстрирующие характерные черты живописи Бэкона. «Штудии» были приняты неоднозначно, но тем не менее укрепили репутацию Бэкона. Уже в 1953 году Эрик Холл, в недавнем прошлом друг и агент художника, тогдашний владелец триптиха, передал его в дар галерее Тейт, где он находится и по сей день. Это произведение живописец считал началом своего самостоятельного творчества и до конца жизни требовал, чтобы более ранние работы не фигурировали на его выставках.
С середины 1950-х слава Бэкона неуклонно растет, характер его живописи не претерпевает существенных изменений. В одиночных картинах и, чаще, в триптихах он разрабатывает несколько элементов, которые подробно рассматривает Делёз: яркий однородный фон, помост в немногочисленных вариантах, арматура-клетка и человеческая фигура или голова. Меняется только исходный материал образов: в 1950-е годы его составляют, в основном, художественные впечатления (вариации на тему автопортрета Ван Гога «Художник по пути в Тараскон», «Портрета папы Иннокентия X» Веласкеса, кадра с няней из «Броненосца “Потемкин”» Эйзенштейна и т. д.), а с 1960-х и до начала 1990-х—реальные люди, прежде всего сам Бэкон и его ближайшие друзья. Крут моделей (впрочем, никогда ему не позировавших,— он писал по фотографиям и по памяти) очень узок: Люциан Фрейд, еще один выдающийся английский живописец; художник, дизайнер и натурщица Изабель Роусторн, заметный персонаж лондонской артистической богемы; не менее известная натурщица Генриетта Мораес; Мюриэль Белчер, владелица излюбленного Бэконом и другими художниками пивного бара «Colony Room» в Сохо; и, конечно, любовники Бэкона—Питер Лэси, Джордж Дайер и Джон Эдвардс. Последним, особенно Дайеру, Бэкон посвятил одно из самых впечатляющих (вне зависимости от толкований его живописи) личных художественных приношений в искусстве XX века. Связанные с именем Дайера триптихи начала 1970-х годов входят в число его шедевров.
Фрэнсис Бэкон умер в Мадриде 28 апреля 1992 года.
Читатель, несомненно, отметит, что, детально анализируя произведения Бэкона, Делёз постепенно переходит от приложения к ним философских понятий (при небольшом объеме и сравнительной узости предмета «Логика ощущения» исключительно богата концептами) к рассмотрению открывающихся за ними перспектив живописи в целом на территории истории искусства. С этим пересечением двух дисциплин и активным использованием в книге терминологического аппарата каждой из них связана основная трудность при переводе «Логики ощущения». Так, мы сознательно варьировали передачу французского plan как «плоскость» и «план» в зависимости от дрейфа этого важнейшего для всей философии Делёза термина между двумя полюсами, на одном из которых он обозначает формальный элемент скульптуры и живописи (где плоскость также, но в определенный момент и на ограниченное время, становится пространственным планом), а на другом—нечто куда более широкое, отсылающее к плану имманенции, к делёзовскому пониманию картографии и т. д. Нам представляется, что подсказанное Бэконом выявление строго геометрической смысловой основы «плана» может помочь и пониманию термина в других контекстах.
Подобного рода блуждание между двумя словарями—на сей раз цветоведения (колористики) и техники живописи—свойственно в обоих языках и паре «ton/valeur», активно используемой Делёзом при анализе колорита Бэкона. В данном случае дело осложняется тем, что в русском языке понятия «тон» и «валёр» употребляются в ином значении, нежели во французском. Делёз понимает под цветовым тоном, в общем и целом, характеристику цвета по спектральному составу, тогда как «валёр» у него характеризует светлоту цвета. Здесь он следует словоупотреблению, одинаково принятому во французской науке и живописи. Так, в цветовой модели HSV, где тремя координатами цветового пространства являются тон (hue), насыщенность (saturation) и светлота, или яркость (value),—третья координата как раз и называется по-французски valeur (ценность, достоинство, значение, сила). В том же значении употребляют это слово и художники— например, Ван Гог, когда говорит, что «Рембрандт орудует валёрами (т. е. варьирует один цвет по светлоте.— А. Ш.) так же, как Делакруа цветом» 5. Однако «валёр» во французском языке—очень общее и широко употребляемое слово, звучащее в сочетании с цветом примерно как «сила цвета» по-русски, и живописцы называют валёрами и вполне хроматические различия. Широко известен пассаж из дневника Делакруа: «Чем больше я размышляю о цвете, тем больше убеждаюсь, что окрашенный рефлексом полутон есть тот принцип, который должен доминировать, потому что именно он дает верный тон—тот тон, который образует валёры, столь важные в предмете и придающие ему подлинную живость. Свет, которому в наших школах учат придавать такое же значение и который мы переносим на полотно одновременно с полутоном и тенью, на самом деле есть не что иное, как чисто случайное обстоятельство; цвет в настоящем смысле слова находится в окрашенном рефлексом полутоне; я имею в виду подлинный цвет, дающий ощущение плотности и того коренного различия, которое существует между одним предметом и другим» 6. В лексиконе русских художников заимствованный термин также приобрел узкое
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: