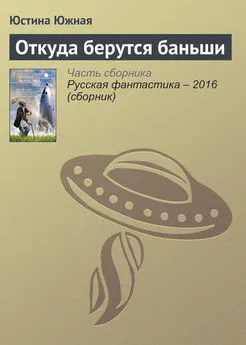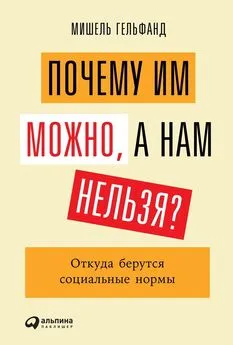Мишель Гельфанд - Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы
- Название:Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина Паблишер
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-2589-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Гельфанд - Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы краткое содержание
Почему в одних культурах жестко соблюдаются установленные нормы, а в других активно приветствуются независимость и инициативность? Почему люди соблюдают установленные нормы, порой вопреки здравому смыслу? Откуда вообще берутся нормы? Эти вопросы волнуют многих людей, живущих в эпоху перемен, в том числе и современных россиян.
Автор книги, психолог Мишель Гельфанд, исследует исторические, социальные и экономические причины самых распространенных свобод и ограничений, а также анализирует преимущества и недостатки обеих систем – жесткой и свободной.
Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Старт еще одной временной волне жесткости дала дата 11 сентября 2001 года. Теракты, совершенные членами «Аль-Каиды», стали полной неожиданностью, унесли почти три тысячи жизней и открыли новую эру доминирования страха в американской политике – на этот раз перед мусульманскими террористическими группировками. Прямым следствием терактов 11 сентября стали принятые конгрессом 130 новых законодательных актов, создание 260 новых правительственных органов безопасности и 600 миллиардов долларов, потраченные на национальную безопасность за период с 2001 по 2011 год. Закон о противодействии терроризму, спешно созданный и почти единогласно одобренный сенатом спустя примерно месяц после терактов, предусматривает беспрецедентные меры контроля над жизнью американцев. Сотрудники правоохранительных органов получили право обыскивать дома и офисы без согласия или ведома их хозяев или жильцов. Управление транспортной безопасности ввело агрессивные меры безопасности и досмотра пассажиров в аэропортах. За период между 2001 и 2011 годом количество депортируемых иностранцев выросло вдвое.
Теракты 11 сентября стали причиной временного сдвига к жесткости, но в годы после национальной трагедии в стране – как в отдельных штатах, так и в США в целом – стали появляться катализаторы свободы. Верховный суд разрешил однополые браки, был избран первый в истории США чернокожий президент (да еще и с иностранными корнями), произошли законодательные послабления в области контроля над наркотиками и т. д. Однако, как оказывается, не за горами был очередной поворот к жесткости.
Как Трамп разыграл карту жесткости
Теория «жесткость – свобода» проливает свет на одно из самых ошеломляющих событий в истории Америки: казалось бы, совершенно неожиданное избрание на пост президента США в 2016 году Дональда Трампа – бизнесмена и звезды телевизионных реалити-шоу.
Трамп отнюдь не специалист в области культурной психологии, но обладает интуитивным пониманием того, что при наличии опасности люди напрягаются и начинают тосковать по сильным лидерам, способным эту опасность преодолеть. Он умело нагнетал обстановку: на предвыборных митингах 2015 и 2016 года Трамп оповещал постоянно возраставшую аудиторию своих приверженцев о том, что Соединенные Штаты находятся на грани катастрофы. Нарастающие угрозы он называл разнообразные: это и мексиканцы, которые ввозят в страну преступность, и международные торговые соглашения, и иммиграция, лишающие американцев рабочих мест, и радикальные исламисты, развязавшие террор на американской земле, и, наконец, Китай, который «имеет» Америку. На протяжении всей своей кампании Трамп посылал четкий сигнал: он способен восстановить порядок в обществе. «Только я могу все исправить», – заявлял он американскому обществу. Трамп проложил себе путь в Белый дом, создав психологически напряженную обстановку.
За несколько месяцев до выборов 2016 года мы с Джошуа Джексоном и Джесси Харрингтоном провели общенациональный опрос с целью заглянуть в мысли сторонников Трампа. Мы задали 550 американцам из всех частей страны и разных демографических групп (гендерных, региональных, расово-этнических и политических) вопросы о том, насколько их пугают внешние угрозы вроде ИГИЛ и Северной Кореи. Кроме того, они соглашались или не соглашались с различными утверждениями, призванными измерить силу их тяги к жесткости: например, считают ли они, что в Соединенных Штатах слишком многое позволяется или, наоборот, запрещается, и в достаточной ли мере соблюдаются существующие нормы. И, наконец, их спрашивали об отношении к политическим проблемам, таким как надзор за гражданами и массовые депортации, и о том, кого из кандидатов, включая Трампа, они поддерживают.
Результаты говорили сами за себя: люди, считавшие, что стране грозят большие опасности, хотели большей жесткости. Наличие такого желания, в свою очередь, всегда означало, что человек поддерживает Трампа. Желание большей жесткости предполагало поддержку Трампа значительно более точно, чем любые другие индикаторы. Например, стремление человека к большей жесткости предсказывало, что он будет голосовать за Трампа, в сорок четыре раза точнее, чем другие распространенные индикаторы авторитарных тенденций. Обеспокоенность внешними угрозами означала также поддержку многих предложений, с которыми выступал Трамп, вроде круглосуточного оперативного контроля над мечетями, создания реестра американцев-мусульман или депортации всех иммигрантов без вида на жительство. Поэтому неудивительно, что наибольшую поддержку Трамп получил в жестких штатах – там, где люди сильнее ощущали себя в опасности.
Совершенно очевидно, что в эпоху, когда людям нравится представлять себя разумными избирателями, результаты выборов 2016 года во многом определили простые человеческие инстинкты, причем обусловленные не только факторами среды, но и умело использовавшим их кандидатом.
Разумеется, стремительный взлет Трампа – не просто некий американский феномен. Он отражает значительно более общую закономерность, проявлявшуюся на протяжении всей истории человечества: опасности вызывают стремление к сильной руке, подчинение авторитарным лидерам и, в худшем случае, ведут к актам нетерпимости. Может оказаться полезным рассмотреть с позиций «жесткость – свобода» политические события, потрясавшие мир в XXI веке, – например, результаты британского референдума 2016 года о выходе из Евросоюза или успех партии «Закон и порядок» на парламентских выборах в Польше. За последние годы значительно жестче стала культура Венгрии – здесь «угрозой» стали беженцы-мусульмане, которых премьер-харизматик Виктор Орбан называет «оккупантами».
Эти культурные сдвиги роднит общая схема: ощущаемая угроза (обычно это терроризм, иммиграция и глобализация) ужесточает культуру и выталкивает на авансцену авторитарных лидеров.
Разумеется, угроза не всегда является объективным явлением. «В ходе истории человечества реальных угроз становилось меньше, поскольку люди учились лучше противостоять им, а количество сфальсифицированных или надуманных опасностей резко росло, – сказал мне израильский историк Юваль Ной Харари – автор книги «Sapiens: краткая история человечества» [5] Юваль Ной Харари Sapiens. Краткая история человечества – М.: Синдбад, 2017.
. – Лидеры и общества могут намеренно создавать искусственные угрозы или искренне верить в некую серьезную опасность, на самом деле не существующую». Свирепый нацистский режим в Германии стал реакцией в основном на надуманные, а не реальные угрозы, заметил Харари.
Существенно, что как в США, так и в других странах авторитарные лидеры обычно пользуются поддержкой рабочего класса и сельских жителей. Действительно, оказывается, что расхождения по рубежу «жесткость – свобода» характерны не только для стран и штатов, но и для различных социально-экономических групп, противостоящих друг другу с драматическими последствиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
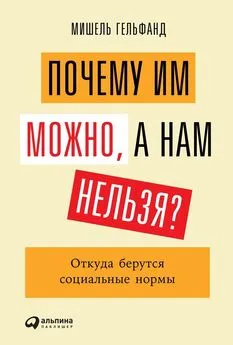

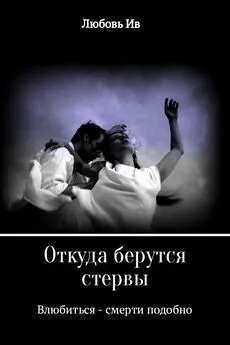

![Андерс Фомсгорд - Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них [litres]](/books/1056136/anders-fomsgord-virusy-otkuda-oni-berutsya-kak-pe.webp)