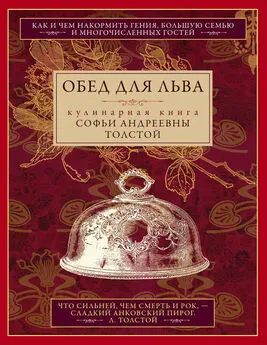Софья Агранович - Двойничество
- Название:Двойничество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Самарский университет
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Софья Агранович - Двойничество краткое содержание
Чаще всего о двойничестве говорят применительно к системе персонажей. В литературе нового времени двойников находят у многих авторов, особенно в романтический и постромантический периоды, но нигде, во всяком случае в известной нам литературе, мы не нашли определения и объяснения этого явления художественной реальности.
Двойничество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конфликтность, контаминирующая с идентичностью сюжетных функций близнецов, стала неотъемлемой, хотя и чисто внешней, характеристикой близнечного типа двойничества. Мы уже показали, что практически во всех случаях, где присутствуют тождественные персонажи, исходной точкой сюжета становится якобы существующий между ними конфликт, который в ходе повествования превращается в столкновение двойников с миром.
Близнечная структура, прообраз которой присутствовал еще в глубокой архаике, актуализируется лишь после того, как в искусстве закрепилась модель антагонистического двойничества как художественный стереотип, воплощающий социальные противоречия. Эта актуализация в известной мере случайна и уникальна, потому что связана с особым культурно-историческим контекстом России XVI- XVII веков.
Почти все произведения, где наблюдается близнечное двойничество, типологически или же в форме открытого следования традиции, связаны с поздним русским средневековьем, с ситуацией духовной и социальной катастрофы, со взлетом антиутопических и эсхатологических настроений.
Поэтому близнечное двойничество можно назвать РУССКИМ ТИПОМ, который в уникальной художественной структуре воплощает специфику трагически соборного русского менталитета. [67] Исторические условия ХХ века, в частности, трагический опыт двух мировых войн, массовое уничтожение рядовых людей в невиданных до того масштабах, породили в западноевропейской литературе духовную ситуацию, семантически сходную с русской. Так, в известной пьесе Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" центральные персонажи очень напоминают близнецов. Эта структура воплощает концепт беззащитности обывателя, против своей воли втянутого в большую политическую игру. Через близнечный тип двойничества в западной литературе идет художественное осмысление так называемого массового общества. Как и в "русском типе двойничества", коллективность, единство жизненного стиля и общность судьбы у Стоппарда оцениваются негативно-трагически. Этот особый вид трагизма противостоит традиционному европейскому пониманию, связанному с сильной личностью, сопричастной власти.
Одним из последних проявлений этой ментальности, а вместе с ней и близнечного двойничества, можно считать поэму Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки" (1969).
Исследователи не раз отмечали влияние на В.Ерофеева бахтинской теории карнавальности. Конечно, В.Ерофеев был знаком с вышедшим в 1965 году первым изданием монографии "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса". Отрицать воздействие идей и пафоса карнавальной свободы, предложенной Бахтиным оппозиции официальной и народной культуры на писателя нельзя. Однако, на наш взгляд, это влияние опосредовано традициями русской демократической литературы XVII века, которая жила в произведениях Радищева и Гоголя, также повлиявших на автора поэмы. Мало того, в "Москва - Петушки" воспроизводится духовнокультурная ситуация, типологически сходная с кризисными процессами смутного времени, да и всего неприкаянного "бунташного" века. Отсюда и мотив кромешного пьянства и бесприютных скитаний персонажей поэмы. Как и в литературе XVII века ("Служба кабаку", "Повесть о бражнике", "Повесть о Фоме и Ереме", "Повесть о Горе-Злочастии"), пьянство здесь инспирируется властью, являясь в то же время своеобразным убежищем от тотального давления этой власти. Так же, как и в древнерусской литературе, пьяным мир предстает как вывернутый наизнанку мир официоза, в данном случае советского: "Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! - всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. "Всеобщее малодушие" - да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!. А что касается деятельного склада натуры... - Кому здесь херес?!" [68] Ерофеев В. Москва - Петушки. М.: Вагриус. 1999. С.15. Сравни из "Службы кабаку": "Всяк ся ублюет, только не всяк на собя скажет <...> Безместное житие возлюбихом, по глаголющему: злато выше изоржаве, си ризы молие поядоша, а пьяницы же и пропоицы залату ржавчину протираху и своему житию веятели являхуся. Наг обявляшеся, не задевает, ни тлеет самородная рубашка, и пуп гол. Когда сором, ты закройся перстом. Слава тебе господи, было да сплыло, не очем думати, лише спи, не стой, одно лишь оборону от клопов держи <...> Руки к сердцу прижавши да кыш на печь, лутче черта в углу не стукаешь". Русская демократическая сатира XVII века.С.40.
Текст Ерофеева насыщен вывернутыми наизнанку советскими концептами. Здесь и Маркс с Энгельсом, бессильные предсказать приступы пьяной икоты, и Абба Эбан с Моше Даяном, и Герцен, недобуженный декабристами, и Максим Горький, который не только "о бабах писал, но и о родине". Все эти мифологемы погружены в кромешный мир повального пьянства, во всенародную службу кабаку. С другой стороны, разговоры с "ангелами господними", обращение к самому Господу, изобилие библейских персонажей, особая проповедническая юродивая интонация совершенно определенно указывают на связь поэмы Ерофеева с религиознонравственным пафосом демократической сатиры. Сюжет поэмы "Москва Петушки" как бы моделирует в новых условиях судьбу Молодца - героя бытовой повести XVII века о "Горе-Злочастии". Молодец из повести XVII века - человек переломной эпохи, когда средневековый стиль жизни перестал удовлетворять потребности личности в самореализации. Традиционное общество цепями висит на ногах Молодца. Он жаждет свободы, но языком этой свободы не владеет. "Царев кабак" выступает как сатанинская подмена желанной свободы. Неслучайно, Горе-Злочастие, персонифицирующее маргинальность героя повести, искушая его, принимает облик архангела Гавриила. Как известно, архангел Гавриил - ключевая фигура Благовещения, фактически возвестивший начало новой эры, эры спасения. Искушение основано на эксплуатации страстного желания Молодцем новизны и свободной жизни. [69] Образ архангела Гавриила в аналогичной функции появляется в главе "85ый километр - Орехово-Зуево" поэмы В.Ерофеева.
Сюжет повести XVII века организуется как беспрерывные скитания Молодца в поисках приюта, родного дома. Но как и герой В.Ерофеева, в пьяном безумии не добравшийся до желанных Петушков, постоянно оказывающийся возле Курского вокзала, Молодец все время возвращается к цареву кабаку. Повесть завершается уходом Молодца в монастырь, однако обитель здесь имеет семантику последнего убежища, норы, в которой можно скрыться от злой участи. Альтернативой монастырю для Молодца оказывается только самоубийство.
Интервал:
Закладка: