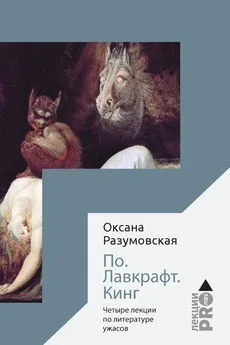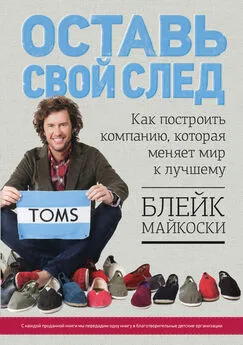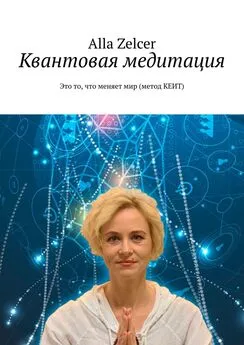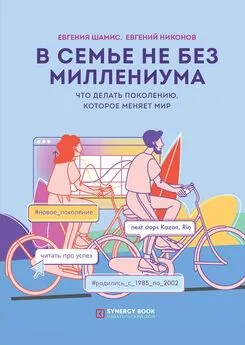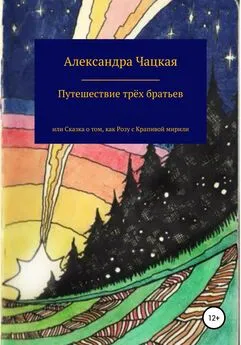Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Название:От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-12188-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир краткое содержание
От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В последующие эпохи, конечно, на перевод уже не возлагается тяжесть всей предшествующей интеллектуальной истории: переводчик сам волен выбирать, как ему обходиться с историей. Например, два великих греческих поэта XX века, Иоргос Сеферис и Одиссеас Элитис, оба нобелиаты, перевели на современный греческий язык написанное на не вполне правильном греческом койне Откровение Иоанна Богослова. При этом если Сеферис руководствовался принципом композиции, то Элитис – принципом, который он сам называл «рекомпозицией», пересборкой из фрагментарно воспринимаемого того, что складывается в связное повествование. Сеферис связывает вещь и действие, а Элитис – действие и другое действие. Например, «стоящих лицом к престолу Его» Сеферис перевел просто «пред престолом Его», а Элитис – «охраняющих престол Его»; или «кто блюдет до конца дела Мои» Сеферис – «кто пребывает посвящен в дела Мои», Элитис – «кто верен и посвящен в дела Мои». Сеферису важно поскорее обратить действие к предмету, чтобы оно стало прямым и непосредственным к нему отношением, – а Элитис не хочет, чтобы действию было так неуютно, и одно действие оказывается родным домом для другого действия: бытие – для охранения, верность – для посвященности, они добрососедствуют, а предмет просто любуется этим добрососедством.
Но в случае перевода мы имеем дело пока что с двуязычием, даже если при этом наравне с привычным нам языком переводимого или переведенного текста возникает язык добрососедства или какой-то еще. Город, согласно Лотману, треязычен: у него есть имя и связанные с ним мифы и образы; у него есть пространство; у него есть время. Обратимся умом к Петербургу. Его имя «Петербург», «Петрополь», «Петроград», «Северная Венеция» и т. д. (все первые три имени есть в «Медном Всаднике» Пушкина, а четвертое подразумевается его сюжетом). Это язык, на котором Россия объясняется с Западом и с собой. У него есть пространство – край, приморье, крайность, заброшенность и причудливость: на этом языке уже объясняется с собой и другими русская культура с ее порой «крайностями» и необычными достижениями. Как сказала Елена Шварц о родном городе: «Простудный, чудный, нудный, судный, Как алхимический сосуд». Наконец, время – это время прибытия кораблей, время строительства, время наводнения – на этом языке уже объясняется русская история, в которой немало разрушений и созиданий, непредсказуемых событий и прекрасных примеров сотрудничества. Как только история проникает в культуру или культура в политику, начинается такой перевод с языка на язык: например, «приморский» начинает вообще значить «торжественный», а «пышный» – «привлекательный», а не только поражающий воображение.
Исходя из этого, можно истолковать «Медный Всадник» не как историю конфликта между частным лицом и авторитарным государством, а сложнее. Евгений, как и все маленькие люди, люди своего времени, хочет возвышаться над стихиями, быть малым Наполеоном, пусть даже формулирует это в мещанских словах, а царю хочется отдохнуть от штормов и бурь большой политики. Но если можно договориться о новом распределении полномочий между властью и людьми в центре, то на краю – нет. Там должен был бы быть поэт как третий член треугольника, но таким поэтом может быть либо Петр I, как преобразователь, либо сам Пушкин. Но Петр I преследует как призрак маленького человека из-за того, что вместо равновесного треугольника у нас неустойчивое противостояние, тогда как Пушкин пытается быть летописцем и тем самым дать совет царю, но показывает невольно, что этот совет не может быть дан: город царей для него привлекателен, но для всех остальных он только пышен даже в самом разрушительном наводнении, они заворожены разгулом стихии, как царь, так и Евгений, как были заворожены его красотой. Так перевод трех языков не складывается, и край пространства срывается в крайность катастрофического времени.
Треязычие Петербурга очень напоминает ряд учений литературоведов и лингвистов, например, учение только недавно умершего Жерара Женетта, ученика и союзника Ролана Барта, о трех «фокализациях», иначе говоря, фокусировках в организации повествования. Нулевая или всезнающая фокализация происходит от первого лица, но такого, которое обладает всезнанием (тогда как эмпирическое первое лицо, как мы выясняли, даже не может сказать многие фразы, по выводам Бенвениста). По сути, всезнание такого повествователя происходит из того, что он всякий раз себя представляет в качестве повествователя, предъявляет документ со своим именем, из которого следует, что сейчас он может повествовать так, а не иначе. Вторая, внутренняя фокализация, речь в произведении от лица героя, то, что мы в нашей традиции называем «сказом» (хотя сказ включает в себя и внешнюю фокализацию, западная наука только начала осваивать этот термин, например в «Антологии сказа» Даниэлы Джонс), соответствует второму лицу и пространственному опыту: герой знает, как выстроено его пространство, и говорит только тогда, когда спотыкается о собственное пространство существования. Наконец, третья, внешняя фокализация, соответствует третьему лицу и опыту времени, когда каждое событие равно непредсказуемо, и только равномерность объективирующего повествования может с этой непредсказуемостью хоть как-то разобраться.
Получается, что в «Медном Всаднике» все построено на смещении: слово поэта тяготеет к внутренней фокализации, к стилизации высказывания, а слово главного героя – к внешней фокализации, к саморазоблачительным характеристикам себя и саморазо-блачительному поведению. В пушкинском «Домике в Коломне» смещение идет в обратную сторону: рассказывание анекдота (или как сказал бы Женетт, «повествовательной метафоры») склоняется к обсуждению разных возможностей стиха по реорганизации пространственного опыта, а любые реплики оказываются лишь репликами всезнающего и при этом пародийно данного автора, добровольно надевающего и добровольно снимающего с себя маску. Также мы не будем сводить пожелание домику сгореть, вслед за Якобсоном, к прорыву подсознания, но лучше вслед за Женеттом будем считать его таким же переходом от судьбы героев к личному высказыванию, как бывает переход от непредсказуемого развития событий в историческом бытии к закономерному их изложению как закономерных в историческом повествовании.
Незаметно для себя мы уже пришли к семиотической поэтике, дисциплине, которая для наших краев еще только разрабатывается. Нужно заметить, что слово «Поэтика», от серии книг формалистов до «Поэтики ранневизантийской литературы» С.С. Аверинцева, употреблялось расширительно: не просто правила построения художественного текста, а правила функционирования литературы, реконструированные таким же образом, как реконструируются правила языковой деятельности в лингвистике – как устройство языка позволяет в нужный момент производить смысл. Тогда поэтика вбирает в себя грамматику и риторику так же, как лингвистика вбирает в себя изучение исторической семантики (как меняются значения) и функциональной прагматики (как производятся эффекты). Над этим смеялись в машинописном журнале «Метродор»: мол, поэтика – синоним слова «всё», «Всё о византийской литературе». Но такой недоброжелательный отзыв уловил главное: действительно, изучая как срабатывает что-то, то или это, нужно узнать, и как срабатывает все.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
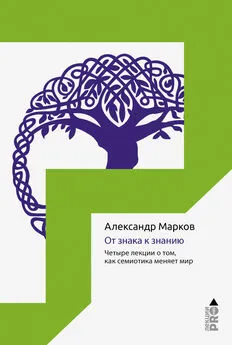
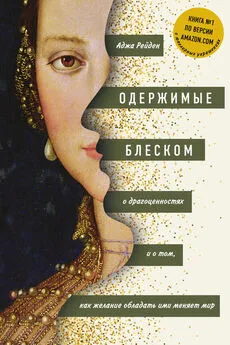
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)