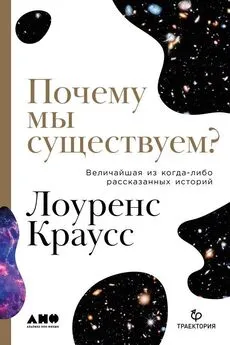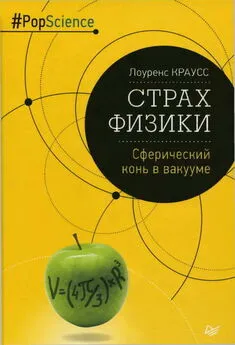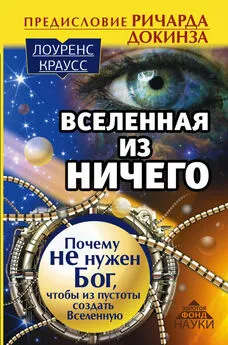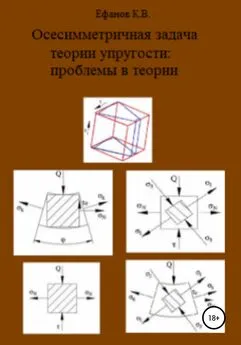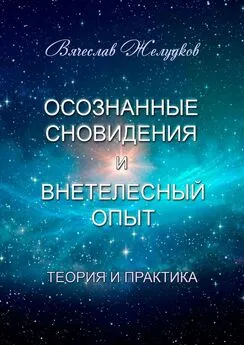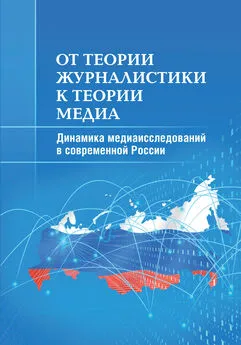Розалинд Краусс - Фотографическое: опыт теории расхождений
- Название:Фотографическое: опыт теории расхождений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ад маргинем»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-191-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Розалинд Краусс - Фотографическое: опыт теории расхождений краткое содержание
Для искусствоведов, историков фотографии, всех, интересующихся теорией и практикой современного искусства.
Фотографическое: опыт теории расхождений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С этим тотальным крушением, с этим радикальным подрывом отличия мы попадаем в мир симулякра, где, как в платоновской пещере, возможность отличить реальность от фантазии, действительную вещь от симулякра отсутствует. Жиль Делёз, анализируя страх Платона перед симулякром, утверждает, что работа различения вместе с вопросом о том, как она должна осуществляться, характеризует весь философский проект греческого мыслителя [243]. Различение не является для Платона вопросом классификации, правильной сортировки различных объектов реального мира, например, по родам и видам: оно заключается в выяснении, какие из этих объектов являются верными копиями идеальных форм, а какие настолько искажены, что являются ложными. Разумеется, все объекты – копии, но верная копия, достойная имитация обладает истинным сходством и копирует внутреннюю Идею формы, а не просто ее пустую оболочку. Эта оппозиция перешла в христианскую метафору: Бог создал человека по своему образу, и, следовательно, первоначально человек был верной копией. После грехопадения внутреннее сходство с Богом оказалось нарушено, и человек стал ложной копией, симулякром.
Как мы знаем, этим платоновская иерархия копий не ограничивается: разграничение подразумевает целую лестницу степеней. Копия первой степени – это верная имитация, как человек до грехопадения. Далее следуют копии второй, третьей степени, и каждая низшая форма имитации характеризуется отдалением от оригинала, ибо является копией копии – как раз таковые создает, например, искусство. В самом низу этой лестницы располагается наиболее искаженная, совершенно ложная копия, фантастический мираж идеи – симулякр.
Однако, по замечанию Делёза, как только Платон берется осмыслить симулякр – в частности, в диалоге «Софист», – он сразу осознает, что сама идея ложной копии ставит под угрозу всю систему разграничения, отделения модели от имитации, так как ложная копия – это парадокс, пробивающий страшную брешь в механизме различения истинного и неистинного. Копию должно характеризовать сходство, воплощение идеи тождества: справедливый человек похож на Справедливость в силу своего качества справедливого. Внутри такой системы элементы различаются по особому статусу внутреннего сходства с некоей формой. Но понятие ложной копии переворачивает эту систему с ног на голову. Ложная копия обращается к идее отличия и несходства, вбирает ее в себя и помещает внутрь данного объекта как само условие его существования. Если симулякр и похож на что-то, то только на идею несходства. Так возникает лабиринт, галерея зеркал, где невозможно установить точку зрения, с которой будут проводиться различия, ибо они оказываются уже внутри реальности. Короче говоря, таким лабиринтом, такой галереей зеркал и оказывается платоновская пещера.
Ницше выступил с критикой платонизма, заявив об отсутствии всякого выхода из этой пещеры, о том, что вместо коридора, ведущего к открытому пространству и к солнцу, там есть лишь переход в другую пещеру. Такое представление о реальности как простом эффекте ложного сходства, о том, что нас окружает не реальность, а эффект реальности, рожденный симуляцией и знаками, развивает вслед за Ницше бóльшая часть философов-постструктуралистов.
Как я показала выше, к деконструкции всей системы модели и копии, оригинала и подделки, первой копии и второй копии привела в определенный момент и фотография с ее собственным зыбким положением ложной копии – образа, похожего благодаря одной лишь механике, а не внутренней, существенной связи с моделью. С точки зрения целого ряда художников и критиков, фотография открыла герметичные перегородки старого эстетического дискурса для самого что ни на есть сурового критического разбора, обратила их против самих себя. А если учесть ее способность проблематизировать весь этот ансамбль понятий – уникальность произведения искусства, оригинальность его автора, последовательность творческого замысла, индивидуальность так называемого самовыражения, – то при всем уважении к Бурдьё приходится признать, что существует-таки собственный фотографический дискурс, хотя он и в самом деле не является эстетическим. Это проект деконструкции, отступления и отстранения искусства от самого себя.
Если работы Синди Шерман позволяют нам судить о том, что происходит, когда фотографический симулякр размывает категории искусства, то пример из «художественной» или «авторской» фотографии может проиллюстрировать обратную стратегию – попытку заглушить вопрос о симулякре и вызвать эффект искусства вопреки ему, что почти неизбежно приводит к возврату вытесненного.

59. Ирвинг Пенн. Натюрморт с ботинком. Нью-Йорк. 1980. Платино-палладиевая печать. 33 × 55,5 см.
Художественный институт, Чикаго
Среди множества подобных опытов можно привести недавнюю серию натюрмортов Ирвинга Пенна, в которых фотограф прямо отсылает к Искусству с большой буквы посредством различных эмблем в традициях «Vanitas» и «Memento Mori» – черепов, высохших фруктов, испорченных или разбитых предметов, призванных напоминать о быстротечности времени и неотвратимом приближении смерти. За этой иконографией, скопированной у живописи барокко и Ренессанса (уместен, кстати, вопрос, какая копия здесь имеет место – верная или ложная), просматривается еще один элемент традиционной эстетики, который Пенн решил привнести в фотографию, во всяком случае, в эту конкретную разновидность фотографии. Я имею в виду двойное понятие исключительности/уникальности, каковыми картина обладает в полном объеме, а фотография, сделанная с картины, – уже лишь частично. Спрашивается, не сводится ли стратегия, избранная Пенном для достижения этих качеств, к их симуляции? Пенн обратился к технике платинотипии, позволяющей получить великолепные по разрешению фотографии путем контактной печати с огромных негативов. Благодаря невероятной деталировке платинотипии производят впечатление исключительности, а контактная печать, предполагающая непосредственную связь между негативом и фотобумагой, придает произведению ауру уникальности, родственную фотограмме, а также рисунку и живописи, в которых уникальность еще более очевидна.
Чтобы получить требуемые для такой печати негативы и не прибегать к увеличителю, Пенн использовал фотоаппарат особого типа, старинное изобретение под названием «банкетная камера», которое, благодаря меху и пластинкам огромного размера, позволило осуществить увеличение при съемке. Именно эта камера, созданная некогда для фотографирования больших групп – футбольных команд или благотворительных собраний, продиктовала необычный формат натюрмортов – вытянутый по горизонтали прямоугольник, соотношение сторон которого нехарактерно для большинства фотоаппаратов. Но для чего оно характерно, так это для разворота глянцевого журнала – самого роскошного из театров полиграфии, предоставляющих сцену массовой рекламе, и самой пышной из ширм, которыми наше общество потребления загораживает платоновскую пещеру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
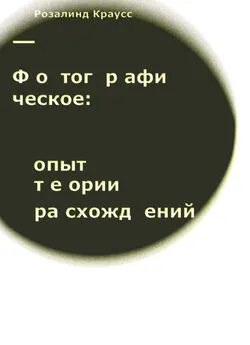
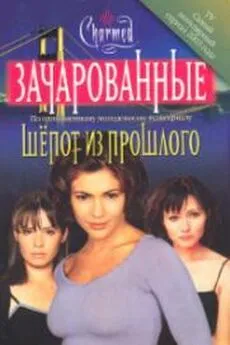
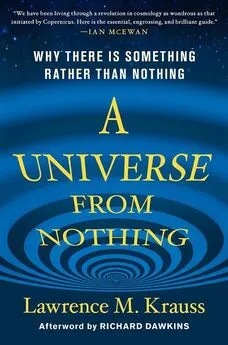
![Лоуренс Краусс - Всё из ничего [litres]](/books/1082596/lourens-krauss-vse-iz-nichego-litres.webp)