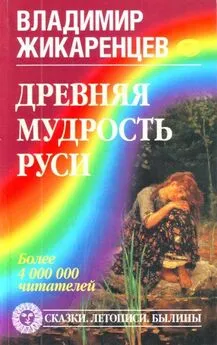Владимир Колесов - Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова
- Название:Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8465-0236-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Колесов - Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова краткое содержание
Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Согласно таким понятиям, принятым отцами церкви, причина и цель вплетены в движение, составляя его суть, но и само движение есть условиепричины и цели. Именно идея условия, соглашения лежит в основе старых обозначений цели.
Цѣлъ и условие — этих слов нет в древнерусском языке и долго еще не будет. Есть, правда, в русских говорах слово усло ‘начатая ткань’, от корня со значением ‘связывать, ткать’, но к категории «условие» оно отношения не имеет. Вообще еще было неясно, что такое условие: то, относительно чего условились (субъективно), или то, что обусловило появление вещи (объективно). Ставить вопрос таким образом — ошибка, поскольку субъект-объектные отношения не развились до такой степени, чтобы субъективное и объективное различать. В этом и состоит смысл понятий о причинно-следственных связях в эпоху Средневековья. Они обусловлены и условлены одновременно.
Слово имеет тут первостепенное значение. Через слово осуществлялся договор-уговор, словом закреплялись все связи и отношения.
Выражением причинно-целевых отношений в русском языке становились предлоги для и ради (Лозбэ, 1968; Колесов, 1977).
Рады — падежная форма от слова, родственного глаголу радѣти ‘заботиться’. Для и древнерусское дѣля — от дѣлати. И забота, и свершение одинаково причиняюткакое-то начало.
Причина — идеальный род, в состав которого входят повод, условие, начало и прочие виды проявлений причинности, включая и основополагающий вид «пространство». Причинное дѣля от дѣлати и пространственное дьля от дьлити одинаково дали современное для (ср. латинскую параллель в слове causa ‘для’ и causa ‘дело’ (ЭССЯ, 4, с. 234)). Но исходное значение словесного корня ощущается и в современных выражениях: чего ради? — с какой радости, для чего? — какого дела.
Дѣля и ради (архаичные формы дѣльма и радьма ) были не предлогами, а послелогами, стояли после основного слова. Кирилл и Мефодий предпочитали ради , их ученики безразлично употребляли ради и дѣля , а в Болгарии X в. использовали преимущественно дѣля. Когда в середине XI в. центр славянской книжности переместился в Киев, тамошние летописцы и переводчики предпочитали ради , а в демократической новгородской среде пользовались «деловитым» дѣля.
Строго говоря, значение «причины» или «цели» содержалось в целом сочетании, один предлог-послелог такого значения не имел. Распространены сочетания типа сего ради, того ради , чего ради, чего дѣля или более конкретных грѣхъ ради нашихъ, обиды дѣля и т. д. Все такие выражения являются переводом греческих формул и по своему происхождению книжные. С помощью своих домашних средств, описательно средневековые книжники старались передать соответствующие греческие выражения. А с точки зрения славянской формулы выражения типа обиды дѣля содержат одновременно и следствие, и условие, и причину
В грамотах и бытовых текстах вместо послелогов употреблялись предлоги с пространственным значением, такие как за, по, от, про и др. Причина, условие или цель описываются как пространственные последовательности расположения за, перед, около или недалеко от предмета описания: за наши грѣхы, по нашимъ грѣхомъ, за обиду и т. д. В Московском летописном своде XV в. для выражения одной и той же связи служат разные грамматические средства: «се же все бысть за грѣхы наши» (Моск. лет., л. 113), «по грѣхомъ нашимъ подведоша Литва» (там же, л. 180), «бѣсте бо отягчали от многаго грѣха» (там же, л. 213 об.) и обычные книжные сочетания с послелогом ради в литературных формулах. Возможное целевое значение здесь описывается с помощью послелога дѣля: «отъя от него волость сына дѣля своего» (там же, л. 117 об.), «а самъ иде въ Овручеи орудии своихъ дѣля» (там же, л. 119). Ради в таком значении отмечается в записи под 1223 г., а дѣля — под 1164 г. Более ранние летописные тексты в целевом значении используют еще русские пространственные предлоги; так, в Ипатьевской летописи «умираемъ за Русскую землю» (Ипат. лет., л. 172 об.) — «Рускыя дѣля земля» (там же, л. 133 об.); «помогу ти про Киевъ» (там же, л. 117 — взять Киев) — «ѣха въ Галичь къ Ярославу помочи дѣля» (там же, л. 207).
В некоторых текстах встречались архаичные формы сочетаний вспомогательных слов, совместно передававших (в соответствии с греческим оригиналом) причинно-целевое значение: за-не-же, по-не-же как остатки с теми же предлогами пространственного значения, но в сочетании с искусственными распространителями, указательным местоимением и и противительной частицей же.
Преимущество послелогов очевидно. Они полностью утратили связь с конкретными пространственными обозначениями, идея «ряда» стала смыслом «порядка». В передаче логических отношений они более строго отражают новый уровень утвержденных сознанием связей. Правда, до конца XVII в. они сохраняют свою многозначность, соединяют значение причины, цели и условия.
В древнерусском же это обычно. В 1177 г. владимирский князь Всеволод вынужден был на время посадить в тюрьму некоторых своих сторонников, поскольку восставшие горожане требовали их выдачи. Летописец отмечает: «Повелъ всадити ихъ въ порубъ людии дѣля, а бы утишился мятежь» (Лавр. лет., л. 130 об.). А бы указывает, что выражение людии дѣля употреблено в целевом значении, хотя сам оборот имел еще значение причинное; вместе с тем налицо здесь и условие: вспыхнувший мятеж об-у-слов-ил временный арест вин-овников событий.
Со временем оба послелога разошлись в значениях и в функции. Дѣля обычно употребляется в сочетании с одушевленными именами, которые выражают способных к действию лиц ( тебе дѣля , Ярослава дѣля ); ради остается в других случаях, сохраняя отчасти причинное значение ( борзости ради — по причине скорости). Дѣля соотносится с производителем действия, а ради со средствами образа действия. Одно дело — «Ярослава дѣля» — для него, иное — «Бога ради!» — ради всего святого.
Распределение прежних послелогов соотносится с происходившим в то же время развитием категории одушевленности и всё большим разграничением между активным субъектом и пассивным объектом действия, выраженного в суждении-предложении. Развитие мысли в сторону причинно-целевых отношений происходило в границах предложения, в контексте, отражающем реальную ситуацию действия.
Как бы отмечая происходящие изменения в значении предлогов, происходят грамматические и фонетические упрощения. Старые формы местоимения заменяются новыми. «Чесо ради?» — говорили тогда, и здесь только указание на причину (‘почему’); «что ради?» — стали говорить с XII в., а здесь и причина ‘почему’, и цель ‘ради чего’. Одновременно послелоги становятся предлогами. В новом сочетании типа «тупости ради умные» ради уже не послелог, но еще и не предлог, как бы переход от одного к другому, указание на будущее свойство: «ради умственной тупости».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: