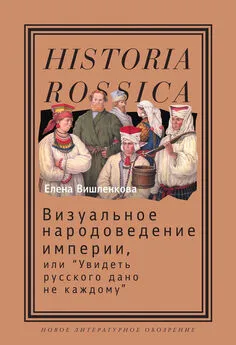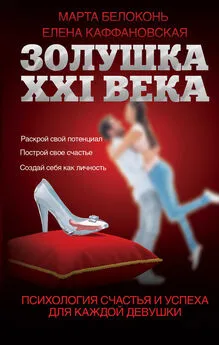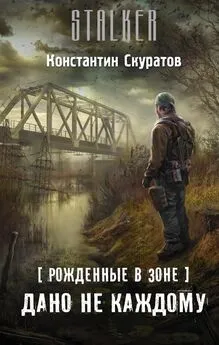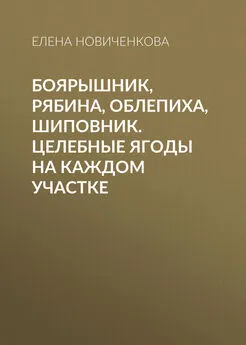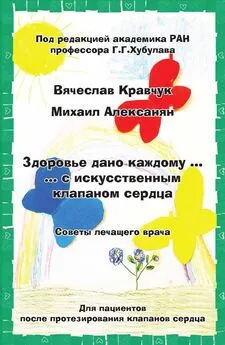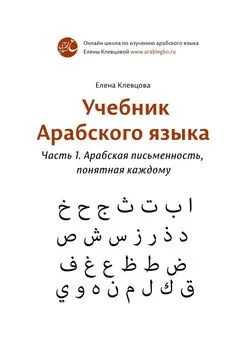Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Название:Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0303-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» краткое содержание
Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Придав сатирическим листам пропагандистское и мобилизационное значение, карикатуристы оказались переводчиками сведений и систем рационального западноевропейского знания о человеческих различиях и общностях в категории отечественной низовой культуры. Для этого им пришлось адаптировать транслируемые понятия, то есть метафоризировать их смысл. В результате западное понятие «нация» применительно к россиянам было выражено через метафору Руси как большой деревни: сообщества земледельцев, вставших на защиту своей земли от шайки разбойников. Соответственно интересы русской нации были увидены в борьбе с Западом. Эта версия расходилась с официальной трактовкой происходящего как священной войны, столкновения всемирного Добра и Зла.
В 1820-е гг. в творчестве венециановцев была осуществлена дегероизация отечественного социального пространства. В отличие от послевоенных производителей лубков и расписных изделий, где народный герой дрейфовал от защитника родного дома до одиозного разбойника, Венецианов старательно освобождал «народность» от флера агрессии – «успокаивал» крестьянские типажи в живописном ландшафте, идеализировал созерцательность, покой, доброту и повседневный труд, нивелировал культурные различия помещиков и крестьян. Определяя себя и своих учеников как живописцев «народности», художник отказался от костюмного символизма, лицевой или телесной типизации, социальной и локальной приписки выбранного объекта. В пространстве полотна групповая солидарность создавалась им посредством принципов живописности («любования простыми вещами») и естественности (рисования с натуры и с учетом перспективных искажений). В результате творчество венециановцев предложило зрителям некий набор поведенческих стереотипов, социальных табу и моделей жизни для этнической мобилизации.
После перевода достигнутых в художественном пространстве соглашений о форме и качествах объекта в тексты стало возможным их бытование в вербальном языке «в заархивированном виде». И поскольку выявленные конвенции не были ситуативными и слабо зависели от контекста высказывания, они позволяют говорить о тенденциях в трансформации ключевых категорий визуального языка самоописания Российской империи. В исследуемое время содержание понятия «народ» изменялось: от границ социальной страты (например, «крестьянин», «купец», «казак») и локального поселения («калужские», «томские», «валдайские») до «подданных короны» («русские народы»), культурной нации («русский народ» в трактовке Лепренса и Аткинсона) и этнической группы (в творчестве венециановцев).
Что касается «русскости», то впервые группа с такими признаками была выделена из категории «подданства» в жанровой гравюре. Именно там она была показана как автономная и даже преобладающая в империи синкретичная культура. В карикатуре двенадцатого года «русскому народу» было придано значение общности, основанной на гражданском согласии и едином прошлом. «Волшебный фонарь» показал проявления отечественного патриотизма в мирных условиях. В это же время официальный видеодискурс перекодировал образы граждански активных социальных низов в фольклорные знаки миролюбивой «славянскости» (скульптурные фигуры языческих богов и плясунов, этнические куклы, «мультяшные» образы в графике). В этом отношении творчество венециановцев стало отступлением от складывающейся традиции, поскольку перевело визуальный разговор о «русском» в плоскость «серьезных» репрезентаций: написанных маслом портретов и аутентичных жанровых сцен.
В отличие от «народа» образ России как тела империи создавался либо совокупностью элементов (таких, как картографические картуши, сюжеты в «Открываемой России» и «Народах России»), либо аллегорическими репрезентациями (на наградных медалях, в храмовой архитектуре, на триумфальных арках и в скульптурных композициях).
По всей видимости, исследуемые иконографические формы знания приучили россиян воображать и мыслить человеческие общности абстрактно. Пионер в описании человеческого разнообразия – костюмный жанр – породил символические образы для представления группы. В отличие от иконописного образа, отсылавшего к идеальной сущности библейского персонажа, «костюм» представлял не индивида, а некую совокупность людей. Для того чтобы увидеть в графическом образе групповой символ, от зрителя требовался определенный навык воображения. По всей видимости, он был сформирован в результате рассматривания лубочных картинок, в том числе на военные сюжеты, где казак воспринимался как знак всех воинов империи, а турок как символ многочисленных врагов. Однако это была дихотомичная конструкция «свой – чужой». В гравюрах же костюмного жанра она расслоилась на неопределенное число неоппозиционных по отношению друг к другу общностей. Рассматривая их, зритель привыкал к мысли о существовании множества «других», которых можно опознать по характерным атрибутам.
Появление сначала альбома, затем таблиц, а потом и иллюстраций с костюмами Х. Рота убедили современников в том, что Россия – многонародная страна. Подписи под рисунками указывали на различные места проживания групп в империи. Выработавшаяся таким образом привычка соотносить воображаемый народ с «землей» породила у зрителей новое территориальное сознание. Протяженность собственной страны они представляли как совокупность обитаемых пространств: «земли лопарей», «острова камчадалов», «кабардинцев горы» и пр.
Еще большего уровня абстрагирования – опознания человеческой общности через «обычаи и нравы» – потребовали от зрителя жанровые гравюры. Только привычка к их рассматриванию могла заставить современника видеть в участниках кулачных боев и игры в салочки русских, в участниках конных ристалищ – татар либо башкир, в охотниках с соколом – киргизов, а в ездоках на собачьей упряжке – камчадалов.
Полет фантазии художника растягивал воображение современников, а возникновение между рисовальщиком и зрителем конвенции восприятия образа создавало основу для следующего творческого прорыва. Так, предложенные зрителю этнографические портреты российских народов (гравюры Е. Корнеева) потребовали изучения телесности. Опыт рассматривания подобных изображений и их обсуждения создал навык распознавания группы по характерным позам, строению и мимике лица.
А карикатура, сделав простонародье творцом истории, пошатнула представления современников о социальной иерархии в империи. Копирование и тиражирование этих образов в крестьянских промыслах и лубке свидетельствует о том, что «перевернутый мир» понравился и прижился в низовой культуре. Лишь после этого стало возможным, чтобы социальные низы заговорили с просвещенным зрителем/читателем от имени «русского народа» (образы «Волшебного фонаря»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: