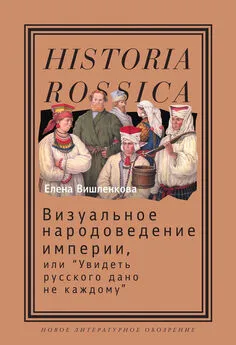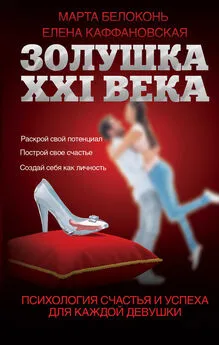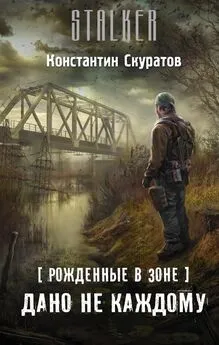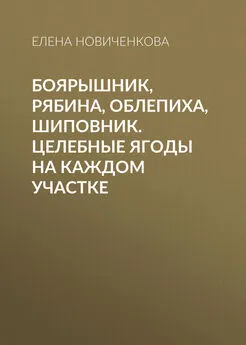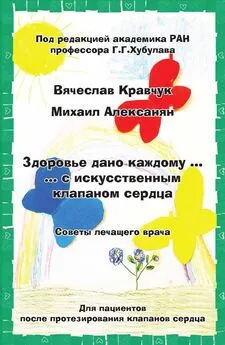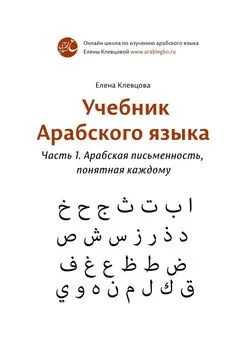Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Название:Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0303-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» краткое содержание
Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пройденные зрителями стадии обучения абстрактным категориям подготовили восприятие крестьянских портретов венециановцев в качестве символов «русскости». В отличие от «антиков», где образ был знаком персонального поступка, в картинах Венецианова натуралистичный до деталей, психологичный до узнаваемости образ являлся коллективным репрезентантом, «каплей, в которой отражается море». «Любители изящного» учили соотечественников видеть в портретах конкретного мальчика, старухи, девушки или старика «наших русских» – человека, поведение и чувства которого заданы принадлежностью к группе.
Конечно, такая способность не могла появиться вдруг и у всех. То, что она потребовала интеллектуального напряжения и даже обоснования внутреннего права, становится ясно из прочтения «Журнала изящных искусств». Публикация споров Григоровича и его сподвижников со Свиньиным и членами Академии художеств позволяет зафиксировать разрыв между одним уровнем абстрагирования и другим. Сторонники Свиньина осмысляли мир в категориях цивилизационного дискурса и потому видели в крестьянских портретах венециановцев декоративные символы империи, способные утверждать ее статус в мире искусства. Взгляд на художественные произведения Григоровича сфокусировали идеи романтизма. Благодаря этому он увидел в портретах конкретных людей: себя и себе подобных, В этой связи критик считал себя вправе корректировать руку и взгляд художника (как если бы был заказчиком собственного портрета), советовал ему более тщательно отбирать натурщиков. Это были советы человека, заинтересованного в релевантном показе «своей» группы, представление о которой у него уже сложилось. Соответственно, воображаемое сообщество Григоровича служило критерием для его оценки творчества венециановцев и других портретистов «русскости».
Появление у части отечественных зрителей способности видеть в персональных портретах совокупность «русских» стало моментом зарождения этнического сознания. Общность восприятия художественных образов создала круг единомышленников, который впоследствии вербализовал обретенные чувства и ощущения, утвердил заботу о русской общности в качестве политической проблемы. Собственно, признаки «русской школы», которые сформулировал Григорович, и были первым шагом на пути к рационализации групповой солидарности. Действующей нормой они стали в деятельности Общества поощрения русских художников и в отборе произведений для русской Галереи. На их же основе в 1830-е гг. началась разработка аутентичного языка художественного описания «русского» прошлого (исторических костюмов, элементов ушедшего быта) и «русского стиля» для архитектуры империи.
В то же время изучение условий и последствий использования визуального языка не привело меня к одномерной картине и простому объяснению его функций. По всей видимости, визуальный язык задавал более или менее однозначное видение человеческого разнообразия лишь в условиях, когда оно еще не обрело значения политической проблемы, когда не существовало лингвистических соглашений о категориях, когда не было внятного понимания форм человеческой группности и критериев отнесения к ним. В этих обстоятельствах художники оказывались основными созидателями народоведческого дискурса. Их историческое лидерство порождено амбивалентным характером когнитивной структуры визуальных символов. Обоснование разделения людей на группы требовало мотивировок, понятных зрителям и опирающихся на их жизненный (прежде всего зрительский) опыт.
Впрочем, говоря об однозначности тогдашнего видения, я не имею в виду договоренности. В отношении почти всего российского XVIII в. мы имеем дело со спецификой восприятия иконического знака группности в условиях отсутствия готовых языковых конвенций для выражения смыслов, в нем заложенных. Современному зрителю такое восприятие, наверное, в принципе недоступно. По всей видимости, оно исчезло уже в конце XVIII в., когда процессы европеизации и графическая демонстрация российской гетерогенности проблематизировали данную тему и, как следствие, перевели ее в текстоцентричный регистр обсуждения. Вторжение в зрительское восприятие вербальных комментариев автора и издателей (описание изображения, помещение его в зависимость от всего контекста издания, участие лингвистических элементов в художественной композиции) создало полифонию смыслов и поставило художественный образ в зависимость от слова. В результате индивидуальное творчество (художника костюмов и нескольких людей, к тому сопричастных) сменилось коллективным характером сотворения народов для империи (в этом приняли участие люди власти, художники, граверы, ученые, издатели, продавцы и покупатели картинок).
Дискуссия о художественном каноне стала первой артикуляцией различных видений национального и первым столкновением раннего романтизма и просвещенческой парадигмы. Она поставила задачу принятия конвенций видения, обсуждения данной темы и поиска новых, более нормативных языков для описания империи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1983. XXVII, 273 s.
2. Altiery C. Canons and Consequences: Reflections on the Ethical Force of Imaginative Ideals. Evanston, Il.: Northwestern University Press, 1990. Х, 370 р.
3. Anthropology and the Colonial Encounter / ed. T. Asad. London: Ithaca Press, 1973. 281 p.
4. Atkinson J., Walker J. A Picturesque Representation of the Manners, Customs and Amusement of the Russians in One Hundred Colored Plates: with Accurate Explanation of Each Plate in English and French. London, 1803–1804. Vol. 1–3.
5. Baehr S. L. The Paradise Myth in Eighteenth Century Russia. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991. XIV, 308 p.
6. Barkhatova E. V. Visual Russia: Catherine II’s Russia through the Eyes of Foreign Graphic Artists // Russia Engages the World, 1453–1825 / ed. C. H. Whittaker, E. Kasinec, R. H. Davis. Cambridge, Mass., 2003. P. 72–89
7. Bauman Z . Allosemitism: premodern, modern, postmodern // Modernity, Culture and «the Jew» / ed. B. Cheyette and L. Marcus. Cambridge; Oxford, 1998. Р. 143–156.
8. Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. Oxford; Cambridge, Mass.: Blackwell, 1995. VI, 293 p.
9. Bauman Z. Modernity or ambivalence // Theory, Culture and Society. 1990. № 7. P. 143–169.
10 . Bauman Z . Postmodernity: Change or menace? Lancaster: Centre for the Study of Cultural Values, 1991. II, 16 p.
11 . Becker S. Russia Between Asia and West: The Intelligensia, Russian National Identity and the Asian Borderlands // Central Asian Survey. 1991. Vol. 10, № 4. P. 47–64.
12. Beeld van de andere, vertoog over het zelf: over wilden en narren, boeren en bedelaars / [catalogus] Dr. P. Vandenbroeck; uitg. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Koninklijk museum voor schone kunsten, Antwerpen. Antwerpen: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Koninklijk museum voor schone kunsten, 1987. 213 p.
13. Bhabha H. The Localition of Culture. London: Routledge, 1994. XIII, 285 p.
14. Bloom H. The Western Canon: the books and school of the ages. New York: Riverhead Books, 1995 [cop. 1994]. X, 546 p.
15. Boorstin D. J. The Image, or What happened to the American dream. New York: Atheneum, 1962 [cop. 1961]. 315 p.
16. Bordo J. Picture and Witness at the Site of the Wilderness // Critical Inquiry. 2000. Vol. 26, № 2. P. 224–247.
17 . Bowlt J. Art and Violence: The Russian Caricature in the Early Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Twentieth Century Studies. 1975. December (№ 13/14). P. 56–76.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: