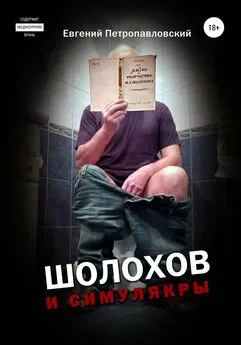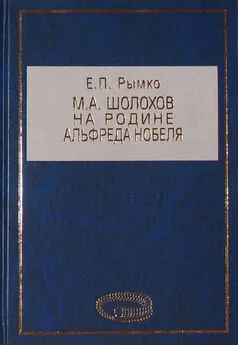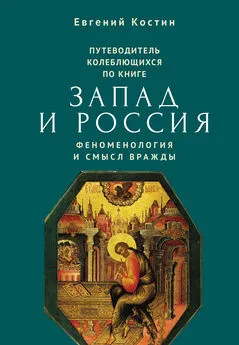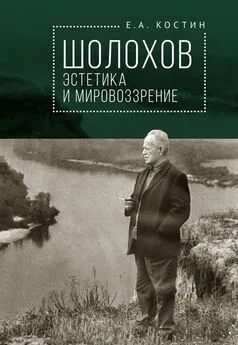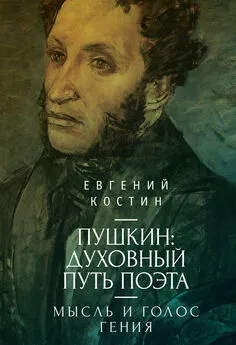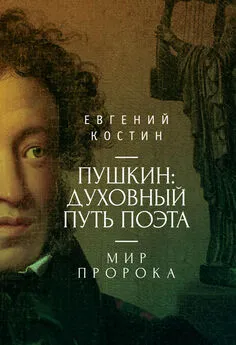Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]
- Название:Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-077-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] краткое содержание
В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом. Читатель, может быть, неожиданно для себя увидит нового Шолохова: писателя со сложной картиной мира, художественно изощренного, удивительно правдивого и истинно народного.
Идеал, гуманизм, оригинальная философская мысль писателя, эстетические категории трагического, катарсиса, комического, хронотопа и ряд других анализируются в книге Е.А. Костина. Особый интерес представляют рассмотренные исследователем острые вопросы революции 1917 года в связи с развитием русской цивилизации в XX веке.
Книга выходит в юбилейный для писателя год (115 лет со времени рождения) и предназначена для самых широких слоев читателей, которых продолжают заботить судьбы России и ее культуры сегодня.
Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но этот гносеологизм писателя невозможен без соединения с фундаментальными ценностями, без опоры на которые вся эта борьба и поиск новой жизни пустая трата времени. Аксиологический багаж шолоховских героев – от «Донских рассказов» до «Судьбы человека – однороден и не меняется в зависимости от изменившихся исторических обстоятельств. Это опора на народные историософские и философско-психологические представления и ценности. Они сформированы всей предыдущей духовной деятельностью народа – от фольклора до религиозных воззрений, они неизменны, они идеальны, они ориентированы на устойчивость и незыблемость дальнейшего существования народа. Поэтому-то народное целое – и автор показывает нам это как свою заветную идею – противится всяким процессам, искажающим эту основу, подвергающим ее эрозии.
Шолохов показывает, как это народное целое порождает из себя в образе немногих, но «лучших людей» (о которых мечтал Достоевский), подлинную квинтэссенцию настоящих бытийных свойств, в которых происходит кристаллизация новых состояний народной души. Эта философская основа нового народного гуманизма, представленная у Шолохова в облике лучших его героев, не может не пониматься как философский прорыв в понимании и описании человека в художественной культуре ХХ века.
Философски-художественный способ Шолохова условно можно было бы обозначить, как русский номинализм , где имплицитно присутствует желание художника определить предмет и явление действительности так, что оно уже не получает никаких дополнительных характеристик по своей основной бытийной сути. Это своеобразный философский реализм. Это вовсе не противоречит реальному развитию характеров и психологии героев в произведениях писателя. Новизна человеческого материала и уникальность историко-культурной ситуации потребовали от Шолохова максимально быстрой фиксации происходящих изменений во всех положениях его персонажей. Это приобретает оттенок известного монументализма , когда происходит затвердение и переход материала в новое, уже определившееся качество. Онтологическое начало разливается по всем произведениям Шолохова, не давая возможности перу писателя остановиться и отдохнуть на каких-то проходных и второстепенных нюансах и деталях во всем – от внешности героев до реакции самого автора.
В мире Шолохова именно по этой причине напрочь отсутствует какая-то эстетическая игра или запрятанная, скрытая аллюзионность («цитатность», сказали бы постмодернисты). Все им воспроизведенное настолько серьезно, что невозможно к этой новой, воспроизведенной действительности приладить какие-то специфические объяснения о традициях и новаторстве, о художественном мастерстве.
Задавая вопрос писателю об этом – а кто влиял и как? – исследователи попадали в двусмысленную ситуацию: для мимесиса Шолохова, как, к примеру, и для мимесиса Гомера, такой вопрос лишен всякого содержания. Возникающий эффект вторичности в случае уподобления чего-то внешнего чему-то внешнему (у кого и как Шолохов учился) аннигилирует то качество шолоховских текстов, которое мы анализировали в своих работах о писателе – неповторимая и единственная его первичность в философски-художественном, онтологическом смысле.
Шолохов также совпадает с возрожденческой парадигмой в изображении человека. У него нет никаких ограничивающих моментов в этом отношении – человек воспринимается крайне широко, без всяких сдерживающих его моментов. К слову сказать, именно у Шолохова дана удивительно разнообразная палитра человеческих характеров, психологий и даже патологий.
Вот «прирожденный убийца» Чубатый в «Тихом Доне», который не переносит человеческого естества и уничтожает его с непонятным удовольствием, вот выродок Митька Коршунов, вот хладнокровные садисты из отряда Фомина Чумаков и Стерлядников, да и так называемый большевистский положительный персонаж Мишка Кошевой предстает перед нами как разрушитель (поджоги домов в Татарском) и убийца друзей детства и стариков, а если вспомнить Половцева и других неоднозначных персонажей «Донских рассказов», «Тихого Дона» и «Поднятой целины», то «опускаются у нас руки» в определении гуманистической ориентации писателя. Шолохов как бы заходит на территорию, определенную еще Достоевским, но если Федор Михайлович во многом теоретически все это конструировал (с точки зрения автора этих заметок), то у Шолохова все темные стороны человеческой натуры даны впрямую, без всяких сантиментов и оберегающей чувствительность читателя слезливости. Этот реализм писателя, конечно, не имеет стихийного характера – это увиденное писателем сквозь «метели» и «мелькание бесов» в прежней русской литературе реальное разворачивание человека в таком его состоянии и потенциале.
Шолохов не закрывает глаза, не прячет от читателя свои ответы: неимоверно «подешевевшая» человеческая жизнь на фоне «отмененного Бога», тем не менее, непостижимым образом обнаруживает такое «очарование человека» из народа, которое не было увидено и отмечено во всей прежней русской художественной традиции.
Упавший как бы на самое дно человеческих прегрешений, взявший на свою душу грех убийства не одного и не двух людей, шолоховский герой (а речь идет о Григории Мелехове) поддерживается автором в самом основном побуждении – спастись можно, только продолжив тяжбу и борьбу с жизнью. «Выжженная как палами» жизнь Григория обладает, тем не менее, своей притягательной силой через философское – именно – объяснение его трагической вины, которая искорежила жизнь и судьбу одного из лучших представителей рода человеческого.
Шолохов масштабирует своего героя до уровня античного титана, которому ничего другого не остается только, как умереть достойно – неважно, происходит это в пределах текста или вне его – но он попробовал схватиться с богами, с самой судьбой и остаться непобежденным. Это ли не философская максима очарования такого человека?
Страшно и помыслить, если бы политическая верхушка настояла и силой – не рукой писателя, конечно, но какого-нибудь партийного редактора – и написала другой финал «Тихого Дона» с приходом Григория к красным в виде какого-либо помощника Мишки Кошевого по хуторскому ревкому. Так бы мы и думали, что русская революция была не страшным испытанием всего народа на прочность прежней истории, но жалкой пародией на выродившуюся нацию и ее лучших представителей.
У писателя возникает, по сути, новая философия о достоинстве и потенциале человека. Нельзя также утверждать, что у Шолохова отсутствуют генерализации в виде логических или каких-либо иных интеллектуализированных формул для объяснения всех этих происходящих изменений. Его герои, как и сам автор, находятся в процессе постоянного оформления суждений обо всем происходящем и о самом человеке. А также о фундаментальных проблемах своей жизни и бытия в целом. Нельзя при этом было спастись никакими примерами, какие можно было получить от предшественников, – и герой, и жизнь, и ее страхи, и ее онтология были совершенно иными. На что надо было опереться новому автору, который остался один на один с бездной нового бытия и поисками ответа, как с ним (бытием) поступать и как его изъяснить?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]](/books/1142518/evgenij-kostin-sholohov-estetika-i-mirovozzrenie.webp)
![Наталия Костина-Кассанелли - Найти, чтобы потерять [litres]](/books/1068026/nataliya-kostina.webp)
![Евгений Гаглоев - Силуэт в разбитом зеркале [litres]](/books/1079570/evgenij-gagloev-siluet-v-razbitom-zerkale-litres.webp)
![Евгений Гаглоев - Ларец, полный тьмы [litres]](/books/1083122/evgenij-gagloev-larec-polnyj-tmy-litres.webp)
![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/1100320/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres.webp)