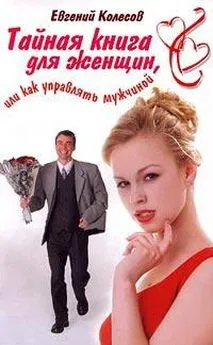Владимир Колесов - Концептология
- Название:Концептология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кемеровский государственный университет
- Год:2012
- Город:Кемерово
- ISBN:978-5-8353-1277-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Колесов - Концептология краткое содержание
Пособие предназначено для магистрантов филологических факультетов вузов, обучающихся по направлению 031000.68 «Филология», а также для студентов, аспирантов, преподавателей. Составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Концептология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Когда мы спрашиваем, что же такое «основание», то прежде всего мы имеем в виду вопрос о том, что означает слово; слово что-то означает; оно дает нам нечто понять, и именно потому, что говорит из самого Нечто», и тогда «сущее является нам как объект, как предмет».
Типичное рассуждение философского реалиста, который исходит из равенства бытия и идеи, одномоментно исходящих от слова и в слове зашифрованные. Более того, к слову сводящего реальность бытия и идеи, поскольку только словом они и являются в мир. Нечто как Сущее опредмечивается в слове, представая «как объект, как предмет».
Если сказанное соотнести с русским эквивалентом ( Логос → Рацио → Сказ), станет ясным, что речь постоянно идет о том, на чем все покоится, в чем все заключается, из чего все вообще исходит. Это Нечто — концепт, который определяет меру и степень понимания, так что Логос, предшествуя рацио, это Рацио определяет «зерном первосмысла» — conceptum. Основание и одновременно Разум.
Равным образом и Логос — вовсе не Слово, как перевели его в Евангелии от Иоанна (1,1-5) Кирилл и Мефодий, и не Verbum, как перевел это слово св. Иероним. Перевод слова мужского рода словом рода среднего было катастрофической ошибкой ранних переводчиков с греческого. Обычно они подыскивали слово того же грамматического рода; так требовалось символикой текста. Слово λογος к моменту составления и переводов четвертого Евангелия накопило уже до тридцати значений: ‘изреченное’, ‘суждение’, ‘определение’ (философский термин), ‘предсказание’, ‘постановление’, ‘повеление’, ‘условие’, ‘обещание’, ‘предлог’, ‘доказательство’, ‘известие’, ‘предание’, ‘право говорить’, ‘тема разговора’, ‘разум’, ‘мнение’, ‘значение’ и т. д. и только в последнюю очередь ‘слово’ — значение, которое получило распространение как новое и весьма удачное. Это значение гиперонимично как род, оно охватило множество других значений слова и потому оказалось удобным в культурном обиходе. Внимание останавливается на двух линиях выражения сопряженных с ним гипонимов видового смысла: проблема «речи» и проблема «мысли» одинаково выражаются старинным греческим словом. «Задумано — сказано», «сказано — сделано» — и все это в одном слове: λογος . Между прочим, славяне в X веке такое же единство мысли — слова — дела передавали новоизобретенным словом вещь. Таким образом, «учитывая семантический диапазон греческого λογος, лучше всего было бы для перевода его на русский язык выбрать из его значений то, что диктуется общим смыслом первых строк Евангелия от Иоанна, а именно: ‘причина, основа, основание’ — первооснова, причина, первопричина — понимается как аристотелевская «движущая сила», как двигатель, давший толчок для сотворения мира. Различие между аристотелевским пониманием этого двигателя и христианским пониманием логоса-первопричины заключается в том, что логос не только был причиной сотворения мира, но и продолжает действовать в нем» (Хайдеггер).
Из этого следует, что более удачными эквивалентами греческого λογος могли бы стать латинское ratio и славянское вещь в исконном их значении. Именно эти слова все чаще стали употребляться в богословских истолкованиях евангельских истин. Именно они обладали смыслом «основание в слове и деле». Быть может, это уберегло бы слово вещь от того семантического падения, в которое оно попало сейчас, по смыслу оставаясь вечным и не становясь вещным.
Однако, сводя значения обоих терминов воедино, мы получаем первобытную точку их соединения. Логос-рацио есть основа основ ментального сознания на уровне подсознательного, это нечто ускользающее из мысли, поскольку одновременно есть и не-есть, здесь и не-здесь, сейчас и не-сейчас. Современная когнитивистика присвоила этому Нечто-Ничто (мэон и мэкон) новое имя — концепт, тем самым переводя энергию божественного Слова- Логоса на мирской уровень логической единицы сознания.
Задание:
Прав ли Томас Гоббс в своем мнении относительно идеального суждения, которое обязательно должно состоять из субъекта, объекта и связки? Ср. англ. It is а реп и рус. Это перо.
Науке известны три формы выявления действительных признаков путем противопоставления реальных вещей: это эквиполентная, градуальная и привативная оппозиции, представляющие возникающие противоречия в различных проекциях.
Эквиполентность — языческий принцип равновесия в равнозначном противопоставлении вещей и явлений: «свет — тьма», «день — ночь», «право — лево», «мужчина — женщина» и т. д. равновелики и равноценны как проявления природного мира.
В III веке н. э. отцы Церкви утвердили богословское учение о Троице — триедином, единосущном, неслиянном и нераздельном Божестве. Это был выход из заколдованного круга языческой эквиполентности в диалектику троичного состава — минимального множества тоже равновеликих членов. Возникла градуальная оппозиция. После X века Восточная и Западная Церкви разошлись в толковании Троицы. Восточная (православная) понимает Троицу как следование от Бога-Отца к двум другим ипостасям — Богу-Сыну и Духу Святому; такое толкование стало наводящим принципом мышления, в любом следовании признающим родовидовые отношения (Отец — род, Сын и Дух — виды), а, следовательно, и действие метонимии (в широком смысле) как основного тропа в расширениях смысла слова. Западная (католическая) Церковь признает связь Бога-Отца и Бога-Сына в их совместном противопоставлении Богу-Духу Святому; это толкование стало наводящим принципом мышления, в любом следовании утверждающим нейтрализацию двух в третьем, тем самым в католическом следовании filioque («и сына») создались условия для перехода к привативной оппозиции.
Привативная оппозиция возвращает мышление к бинарному (двойному) противопоставлению, когда один его член несет признак различения, а другой его лишен. Уже в IX веке троичность «тело — душа — дух» была сведена к привативности «тело — душа», появились трактаты, повествующие о «Споре Тела с Душою», в которых Душа побеждала как отмеченная признаком, которого Тело было лишено.
Примеры:
Как гносеологический инструментарий, оппозиции могут быть приложены к любой сфере познания. Рассмотрим несколько примеров.
В фонетике противопоставление гласных е — о было эквиполентным в древности ( е передняя неогубленная — о задняя огубленная, различие по разным признакам), входило в градуальный ряд гласных разного происхождения (среди них фонемы ь, ъ, ê, ô) в старорусском языке и вошло в привативное противопоставление в современном литературном языке ( е неогубленная — о огубленная). Фонетический смысл звуков вряд ли менялся — изменялась система противопоставлений, отношения между фонемами. Только в условиях эквиполентной равноценности двух фонем стало возможным использование их на следующем уровне различений — морфонологическом, когда чередование е—о стало определять морфологические отношения (беру — бор, везу — воз и подобные). Это чередование стало магистральным в системе языка, захватывая все типы чередований (например, носовых гласных и их рефлексов в грязь — груз — из сочетаний еп — on) и неоднократно повторяясь в производных чередованиях, например, в чередовании фонем ь — ъ или е—о после мягких согласных. Именно равнозначность фонем дала толчок важнейшим чередованиям, двоично осмыслявших мир сущего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: