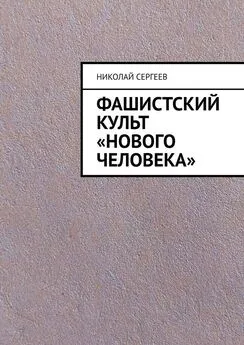Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Мы потеряли ноги в боях за Отечество. Несмотря на инвалидность, мы горим желанием работать на благо советского народа. Однако осуществить наше желание нам мешает отсутствие качественных искусственных ног… Мы получили протезы… но они причиняют ссадины и боль. Они оказались бесполезны» [215].
Таким образом, в первые послевоенные годы относительно инвалидов войны и их места в советском обществе возникли две параллельные установки. В рамках одной из них подчеркивалась великодушная природа Советского государства, оказывавшего помощь этим людям, а другая расценивала инвалидность как нечто подлежащее преодолению через возвращение к труду и благодаря уникальной физической и моральной силе советского человека. Всего за несколько лет израненное тело превратилось из абсолютного признака героизма и патриотического долга в препятствие, которое требовалось преодолеть, чтобы восстановить мужскую состоятельность. В связи с этим послевоенная печать была наполнена заголовками, пропагандирующими выдающиеся достижения инвалидов войны: безрукие перевыполняли производственные задания, ампутанты управляли тракторами, а ветераны использовали время реабилитации для овладения новыми навыками. К этим людям не требовалось проявлять жалость из‐за того, что они получили увечья, — их исключительным достижениям, храбрости и решимости нужно было подражать [216].
Но сколь бы часто эти конкурирующие нарративы ни проявлялись в печати, ни умозрительные стереотипы о поддержке инвалидов, ни сверхчеловеческое преодоление ими своих недугов не оказывали влияния на художественные репрезентации увечья и инвалидности.
Хотя образ искалеченного солдата так полностью и не исчез из визуальной культуры позднего сталинского периода, он всегда изображался в ретроспективном контексте, то есть его появление ограничивалось фронтом, — в изображении послевоенного общества эта фигура отсутствовала. Между 1945 годом и примерно 1948 годом, когда изображения раненого солдата исчезли [217], он, в отличие от героических образов военного времени, выступал не самостоятельной фигурой, а служил персонажем, оттеняющим героизм других людей. Подобные изображения попадали на страницы как популярных журналов, так и профессиональных альманахов. В качестве примеров можно привести рисунок В. Химачина, на котором медсестра Мотя Нечепорчукова ухаживает за ранеными (1946), или картину Веры Орловой «В разведке» (1947), где изображена молодая партизанка, помогающая раненому солдату пробираться через лес, — эти работы были опубликованы соответственно в «Огоньке» и «Советской женщине» [218]. При этом образ раненого солдата не использовался исключительно в качестве способа превознесения действий женщин во время войны. На картине бывшего партизана Николая Обрыньбы «Первый подвиг» (1947) мальчик ведет двух раненых солдат через лес в безопасное место [219], а на картине Константина Финогенова «И. В. Сталин в блиндаже» (1948) полностью обойдена тема героизма израненного солдата, которого приветствует вождь: солдат оказывается в тени, а Сталин показан отважным и физически превосходящим всех, кто его окружает[220].
В одной из наиболее известных картин этого периода (а фактически и всего корпуса живописных работ на военную тематику) — «Письме с фронта» Александра Лактионова (1947) — образ раненого солдата используется несколько иначе. В этом случае ранение оказывается не способом подчеркнуть отважные действия людей, которые окружают раненого, а выступает в качестве сюжетного приема, при помощи которого легитимизируется отсутствие человека на фронте. Согласно собственным, в значительной мере стилизованным воспоминаниям художника об истоках этой работы, изначальное вдохновение ему дала встреча с реальным раненым ветераном:
Я видел солдата, хромавшего вдоль пыльной дороги; одна его рука была перебинтована, а в другой он держал письмо… Я заговорил с ним. Он только что выписался из госпиталя, где лежал вместе с товарищем, который много лет не писал домой и считался пропавшим без вести. Этот человек попросил солдата передать письмо своим родственникам. Встреча с этим солдатом и подсказала мне тему картины [221].
Тот же самый солдат станет для Лактионова и прообразом героя его картины «Защитник Родины» [222], созданной в следующем году (1948), — ранения, полученные изображенным на ней военным, напоминают ранения солдата, с которым художник встретился перед написанием «Письма с фронта» [223]. Хотя «Защитник» — работа малоизвестная, изображение Лактионовым ранения в портретном жанре было уникальным для этого периода и фактически останется единственным подобным примером до появления в 1964 году картин Гелия Коржева.
В дальнейшем «Письмо с фронта» рассматривалось как классика социалистического реализма, но в первые годы после создания этой работы у нее была довольно неоднозначная репутация: первоначально ее критиковали за фотографический реализм, и на первом показе картины на Всесоюзной выставке 1947 года она висела в темном и тусклом коридоре Третьяковской галереи. Но уже через несколько дней, после того как в книге отзывов выставки появились восторженные записи в адрес этой работы, а коридор, где она висела, оказался набит зрителями, ее переместили в более подходящее место [224]. Контраст между популярностью картины и реакцией профессионалов на работу молодого художника получил отражение на страницах массовой печати, поскольку репродукция «Письма» впервые появилась не в профессиональном издании, а в женском журнале «Советская женщина» в апреле 1948 года. Чуть позже в том же месяце Лактионов был награжден Сталинской премией первой степени[225]. Тем самым за «Письмом» была закреплена репутация любимого произведения и публики, и властей, и картина на много лет стала ключевым образом советской печати — ее воспроизводили на открытках, в 1973 году она появилась на почтовой марке в рамках серии, посвященной советской живописи[226], а также часто украшала страницы популярных изданий, особенно по случаю каких-либо значимых годовщин.
Ключевую роль в сюжете картины — изображенная сцена демонстрирует личное и ограниченное домашним кругом воздействие войны на советскую семью — играет раненый солдат, предстающий в роли гонца с радостным известием: отец и муж, которого семья считала погибшим, на самом деле жив. Лактионов не только прибегает к не имеющему аналогов использованию образа раненого солдата, но и помещает эту фигуру в домашнее окружение. Однако если отдельно взглянуть на то, как художник изобразил ранения этого человека, можно заметить ту же степень недосказанности, что была характерна для визуальной репрезентации израненного мужского тела в этот период и далее. Само это действие — доставка драгоценного письма — в изображении Лактионова подразумевает, что солдат находится в процессе полного выздоровления, а возможно, даже возвращается на фронт; его перевязанная рука и палка выглядят как некая временная и в определенном смысле нелогичная деталь, поскольку мы видим, что солдат стоит, а не сидит, пока письмо читается вслух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: