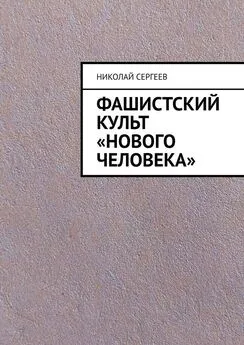Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как было показано в первой главе, лишь в середине 1960‐х годов визуальная культура стала обращаться к теме горя, причиненного мужчинам смертью их товарищей, в череде произведений, в которых рассматривалась как физическая, так и эмоциональная цена, заплаченная за войну. Совершенно иначе выглядели случаи, когда речь заходила об изображении скорби мужчин, переживающих потерю родственников. За весь рассматриваемый в рамках нашего исследования двадцатилетний период удалось обнаружить всего один образ отцовского горя — картину грузинского художника Бежана Швелидзе «Воспоминание о погибшем сыне» (1964). На этой потрясающей работе изображен пожилой мужчина, окруженный молодыми людьми в военной форме, — они поднимают тост за сына, брата и товарища, павшего на войне [337]. Через несколько лет в журнале «Искусство» эта работа получила определение «новаторской», а критик Г. Плетнева назвала ее произведением «живой памяти», размышлением о глубинах человеческих эмоций, вызванным такой утратой, на которую можно было указать только с помощью изображенных художником бессловесных фигур [338]. Плетнева справедливо посчитала эту картину поворотной: хотя внутренней борьбе как последствию войны находилось место и в более ранних произведениях, таких как «Земля опаленная» (1957) Неменского или «Влюбленные» (1959) Коржева, работа Швелидзе стоит особняком, поскольку на ней изображена фигура скорбящего отца. Но даже здесь не нашлось возможности для изображения утраты в домашней обстановке: герои картины находятся на открытом пространстве, как будто художник противопоставляет исцеляющий и восстанавливающий силы пейзаж израненной душе убитого горем мужчины [339].
Примерно в одно время с появлением картины Швелидзе стали находить воплощение и некоторые другие темы, которые последовательно избегались после окончания войны, хотя подобных примеров очень немного. Возвращение в покинутый дом — после 1945 года это было реальностью для тысячи мужчин, однако в живописи эта сцена впервые была изображена только на картине Александра Романычева «Отчий дом» (1964). Ее эскиз был опубликован в «Художнике» в 1963 году, и автор сопроводительного комментария задал вопросы, потенциально беспокоящие и зрителя: «Что здесь произошло? Где семья? По-прежнему ли она жива?» Но ответа на них ни критик, ни сама работа не дают [340]. Подобная недосказанность относительно взаимосвязи домашнего пространства и войны будет более подробно рассмотрена в следующей главе, однако тот факт, что даже в 1960‐х годах работы Швелидзе и Романычева были столь исключительным явлением, затрагивает всевозможные проблемы, связанные с тем, каким образом осмысление горя и утраты рассматривалось в советской визуальной культуре. Если в рамках социалистического реализма не возбранялось обращаться к теме военной утраты (что, похоже, происходило даже до 1945 года) при условии изображения доблестной смерти, то почему так мало художников предпочитали обращаться к этой теме сквозь призму ее восприятия отцами, мужьями и сыновьями? Нельзя принять это упущение как проявление некой сложившейся культурной нормы, которая кодировала горе как дело сугубо женское, или идеализированной модели маскулинности, основанной на стоицизме и контроле над эмоциями. Дело также и не только в воплощении идеалов социалистического реализма, столь часто избегавшего реальности и правдивого изображения человеческого опыта, поскольку, как мы уже видели на множестве примеров, репрезентация войны в визуальной культуре значительно отличалась от того, как к этой теме подходили в других культурных сферах.
В художественной литературе, в особенности в поэзии, горе, причиненное утратой сына в битве, еще до окончания войны чаще подавалось именно с мужской точки зрения. Стихотворение «Сын» Павла Антокольского (1943) было личной реакцией поэта на гибель сына в июне 1942 года. В нем представлено переплетение человеческих эмоций — от воспоминания о счастливом детстве сына до желания мести. Предполагаемая героическая смерть юноши на службе своей стране для автора была слабым утешением, поскольку он утверждает:
«Солдат?… Так мы не поможем / Понять страницу, стершуюся сплошь» [341]. Аналогичным образом Михаил Шолохов в своем рассказе «Судьба человека» душераздирающе писал о влиянии смерти сына на главного героя Андрея Соколова:
Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер… Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник… «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее»… Мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?.. Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду [342].
В аналогичном ключе в литературе того времени находила отражение и тема солдата, который при возвращении домой обнаруживает, что его семья погибла. В стихотворении Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату» (1945), хотя оно было подвергнуто цензуре до 1953 года [343], рассказывается история солдата, вернувшегося на родину после освобождения Будапешта и обнаружившего, что его дом сожжен, а семья убита [344]. Даже в безрассудно веселом «Василии Тёркине» присутствовала глава «Про солдата-сироту», где приводится история одного из товарищей Тёркина, который, проходя через свой родной город, обнаружил, что «Ни окошка нет, ни хаты, / Ни хозяйки, хоть женатый, / Ни сынка, а был, ребята…» [345] Хотя нам следует принимать во внимание обстоятельства создания этих вещей и тот факт, что некоторые из них не допускались к публикации цензурой, произведения Антокольского и других авторов демонстрируют, что выражение мужской скорби в самых разных видах было естественно для послевоенной литературы, однако ничего подобного не обнаруживается в мире изобразительного искусства. Даже после публикации и экранизации рассказа Шолохова визуальная культура еще несколько лет не касалась темы отцовского горя утраты.
Тот факт, что некоторые из этих стихотворных и прозаических произведений не попадали в публичное поле до смерти Сталина, определенно предполагает глубокие опасения по поводу выражения столь негативных эмоций, однако они по-прежнему создавались, а фактически и выходили в свет. А вот то обстоятельство, что до смерти вождя не обнаруживается никаких визуальных образов мужской скорби, позволяет предположить, что данная тема не была предметом освоения в этой сфере искусства, хотя отсутствие подобных образов в печати связано не только с цензурой сталинского времени. Оно, вероятно, было связано со спецификой этого периода — консерватизмом, акцентом на нормализации и жесткими ограничениями на память о войне, — хотя подобное обоснование становится все более шатким по мере приближения к концу 1950‐х годов. И все же отсутствие в период оттепели репрезентации утраты, поданной с мужской точки зрения, совпадает с тем, что можно обнаружить в случае с другими проблемными аспектами военного опыта. Небольшое число визуальных образов инвалидов, устойчивое представление ранения как не слишком серьезного ущерба и последовательно романтическое изображение солдатского товарищества — все это указывает на поразительную степень преемственности в том, как война воплощалась в изобразительном искусстве до и после рубежного 1953 года. Хотя определенные изменения имели место, а некоторые художники действительно демонстрировали реальное желание браться за более острые и более проблемные стороны современной жизни, это по большей части (при наличии одного-двух примечательных исключений) не распространялось на визуальное переосмысление военного опыта советских людей[346]. На протяжении почти двадцати лет вышло мало произведений, в которых затрагивались бы темы горя и печали, испытываемых разными представителями советского общества, за исключением матерей павших солдат.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: