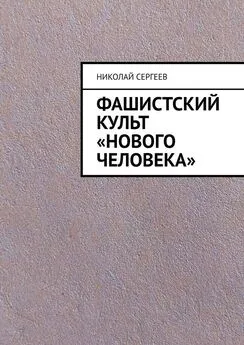Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Учитывая масштабные разрушения жилья, произошедшие во время войны, неудивительно, что именно дом стал ключевым элементом в процессе восстановления нормального хода жизни, и общее дело перестройки и перенастройки советской жизни лишь способствовало симбиотическим отношениям между семьей и советским государством: частные и публичные соображения в данном случае вновь совпадали. Однако за рамками идеала уютного дома в произведениях Решетникова, Лактионова и других симптоматичным образом заметно гораздо более масштабное нежелание показывать визуальную связь между утратой и домашним пространством. Этот аспект сохраняется даже в работах, в которых утрата осмысляется как таковая. Однако двусмысленность, с которой мы сталкиваемся на картинах типа «Прибыл на каникулы», не является проблемой. Как было показано в предыдущей главе, сразу же после окончания войны существовало небольшое пространство для визуальной репрезентации скорби, которая чаще всего ассоциировалась с фигурой матери, что можно заметить по таким работам, как «Слава павшим героям» («Реквием») Федора Богородского и «Мать» Всеволода Лишева. Но, несмотря на использование семейных мотивов для выражения эмоций в отношении павшего солдата — гордости, славы, чести и, конечно же, скорби, — за исключением довольно необычной картины Семенова, явная связь между домашним пространством и горем оставшихся в живых полностью отсутствовала. Перемещение скорби в антураж, удаленный от реальности (у Богородского), или изображение поиска тела сына, все еще лежащего на поле боя (у Лишева), охраняли домашнее пространство, позволяя представлять его как место исцеления и некое святилище, далекое как от войны, так и от ее последствий.
Изображение солдата, вернувшегося домой на руины или столкнувшегося с гибелью своей семьи, отсутствовало в визуальной культуре, вероятно, до того момента, когда в середине 1960‐х в журнале «Художник» был опубликован эскиз картины Александра Романычева «Отчий дом» (1964) [473]. На нем вернувшийся с фронта солдат стоит у дома, где когда-то жили его родители, а теперь пришедшего в запустение: все заросло травой, входная дверь заколочена. Этот образ резко контрастирует с более ранними фотографиями, изображавшими возвращение с войны, на которых солдат запечатлен со своей семьей, у любимого дома и сада. Вскоре после появления эскиза Романычева в июле 1966 года последовала публикация в «Огоньке» картины Бориса Щербакова «Непобедимый рядовой» (1965) в виде цветного двухстраничного разворота [474]. На ней изображен изможденный взволнованный солдат, сидящий на развалинах дома [475]. Тот факт, что между окончанием войны и появлением художественных произведений, в которых утрата связывалась с домашним пространством, прошло два десятилетия, подразумевает, что для объяснения отсутствия визуальных материалов, отражающих связь войны и дома, необходим взгляд поверх политических ограничений сталинизма. Неимение подобных работ можно, скорее, рассматривать как признание исцеляющей силы сакрального домашнего пространства — подобное представление никоим образом не было исключительно советским, оно совпадает с тем, что после 1945 года было характерно для всей Европы [476].
Вопрос о том, почему нежелание визуальной культуры связывать дом с последствиями войны было столь выраженным, является исключительно дискуссионным. Определенно и господствующая атмосфера ждановщины, и консервативная природа художественного производства в первые послевоенные годы (что хорошо заметно по созданию Всесоюзной академии художеств в 1947 году) могут бросить свет на то, почему подобным проблематичным или вызывающим разногласия темам не находилось места для выражения в последние годы сталинизма. Однако этим невозможно объяснить уже отмечавшееся расхождение в рамках культурного производства в ситуации, когда все его направления были подчинены одним и тем же идеологическим ограничениям, а также то, почему нежелание обращаться к указанным темам сохранялось и на протяжении всего периода оттепели [477]. Вместо анализа ухищрений различных культурных институтов, вероятно, будет более продуктивно осмыслить данные различия как имеющие отношение к неотъемлемым свойствам самих культурных форм. В центре литературного и кинематографического освоения тем утраты или травмы можно обнаружить постоянный мотив преодоления: герой «Судьбы человека» Шолохова избегает горя от гибели всей своей семьи, становясь отцом для маленького сироты Вани, а летчик-истребитель Алексей Маресьев превозмогает ампутацию обеих ног, чтобы снова подняться в небо. Сложности историй о служении, пролегающем через отчаяние к окончательному триумфу или возрождению, попросту лучше соответствовали временные, а не пространственные виды искусства, поскольку предполагающий развитие сюжет почти невозможно изобразить на холсте.
Впрочем, как бы мы ни ставили разные подходы к одним и тем же темам в зависимость от жанра, очевидно, что невозможно говорить об одном гомогенном способе обращения к войне и ее последствиям в советской культуре даже в годы сталинизма, не говоря уже о той множественности подходов, ставшей возможной в период десталинизации. Принципиально важно признать, что утраты, причиненные войной, были частью советской культуры, но столь же значимо и признание масштабных различий, которые существовали в способах освоения наследия войны. В случае визуальной культуры, несмотря на открытое выражение скорби через фигуру матери, в рассматриваемый период нельзя обнаружить признание воздействия войны либо на детей, либо в целом на домашнее пространство. Эта особенность отделяет визуальную культуру от других художественных форм того времени. Если же речь идет о фигуре исчезнувшего отца, то перед нами предстают весьма двусмысленная ситуация и явное расхождение между сюжетами рассмотренных выше картин и их критическим восприятием на страницах как популярной, так и профессиональной прессы — расхождение, которое исчерпывающе демонстрирует пределы официальной риторики в освещении проблем послевоенной социальной реальности.
Отцовство по доверенности: вожди страны как суррогатные отцы
Картина Александра Лактионова «В новую квартиру», впервые показанная на Всесоюзной выставке 1952 года, была воспринята неоднозначно. Полотно подвергли критике за приукрашивание действительности, за изображение неправильного вида обоев и за то, что художник имел смелость поместить в современную квартиру искусственные цветы [478]. И все же эта картина стала чем-то вроде бестселлера в популярной советской печати [479]. Героиня работы Лактионова стоит в окружении домашнего скарба на паркетном полу своей просторной новенькой квартиры, уткнув руки в бока, и гордо осматривает свои владения. На заднем плане ее старший сын завозит свой велосипед в еще одну комнату, а дочь держит на руках кошку — они тоже осознают, что перед ними чудо. Стоящий рядом с женщиной младший сын озадаченно смотрит на нее, как будто спрашивая: «Мама, куда же мы повесим портрет Сталина?» Так задается определенная семейная иерархия: женщина помещена в центр холста, она твердо стоит на ногах, формируя вертикальную ось картины [480], буквально воплощающую ее роль оплота, скрепляющего семью, а рядом с ней оказывается не муж, а портрет вождя. Хотя в центре сюжета картины Лактионова находится именно женщина, портрет Сталина здесь выступает не просто в роли заместителя ее супруга: благодаря близости портрета к мальчику Сталин функционирует и в качестве суррогатного отца, поскольку естественная фигура мужского авторитета — старший сын — отодвинута на незначимую позицию. Таким образом, в изображении Лактионова Сталин предстает чем-то гораздо большим, чем фигуративный патерналистский вождь или тот, кто преподнес этой семье в дар квартиру. Как утверждает Йорн Гулдберг, «посредством своего портрета… Сталин делает эту семью полной, а замещая „реального“ отца, он восстанавливает семейную гармонию и порядок» [481].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: