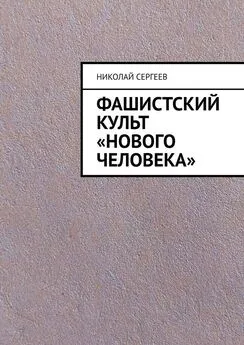Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Представление о Сталине как об отце нации определенно не было порождением послевоенного периода. Такие исследователи, как Катерина Кларк, Ханс Гюнтер, Катриона Келли и Ян Плампер, подробно продемонстрировали, что эта метафора была значимой в литературе, кино и визуальных искусствах уже в 1930‐х годах [482]. Идея Сталина как фигуры, замещающей собой что-либо — например, отцовство, — также не была какой-то новой концепцией. Образ сироты играл заметную роль в ранний период кинематографа социалистического реализма, в особенности в музыкальных комедиях в духе «из грязи в князи», а повторяемость этого мотива заставила Марию Энценсбергер еще в 1993 году утверждать, что «отсутствие семьи в советском кинематографе 1930–1940‐х годов достойно отдельного исследования» [483]. Однако после 1945 года новым — особенно если речь идет о некинематографической визуальной культуре — был перенос этого суррогатного отцовства в домашнее пространство. В первые годы войны культ Сталина был главным образом скрытым, но после 1943 года он усердно возрождался. Участвуя в восстановлении этого послевоенного культа личности, жанровая живопись того периода последовательно включала фигуру Сталина в домашнее пространство, что приводило к некоему «одомашниванию» культа и появлению иной его формы в сравнении с предвоенной. Более того, помещение Сталина в домашнее пространство, основанное на устойчивой взаимосвязи между Сталиным и советским ребенком, почти исключительно ограничивалось работами, в центре которых находились дети.
На картине «Первое сентября» (1950) художник Анатолий Волков изобразил девочку, готовящуюся снова пойти в школу. Она повязывает пионерский галстук перед зеркалом в своей светлой и просторной спальне — все это происходит под любящим взглядом Сталина, чей портрет висит над книжной полкой [484]. Аналогичным образом Елена Костенко на картине «Будущие строители» (1952) запечатлела группу маленьких детей, играющих в такой же хорошо обставленной квартире с обилием игрушек, а сверху на них взирает Сталин с висящей на видном месте фотографии, где он изображен вместе с бурятской девочкой Энгельсиной (Гелей) Маркизовой [485], [486]. Однако в данном случае введение Сталина в домашний антураж выполнено искусно в сравнении с написанной в том же 1950 году картиной Григория Павлюка «Дорогому Сталину», на которой домашнюю сцену с группой детей, пишущих письмо вождю, сопровождает невероятно большой бюст самого Сталина, наблюдающего за происходящим из угла комнаты [487]. Поскольку в этих работах отсутствует образ реального отца, Сталин замещает его и выполняет ряд традиционных отцовских функций: он предстает как источник вдохновения, советчик, средоточие любви и преданности. Также он является тем, кто великодушно предоставляет семье собственный просторный дом.
Помимо образов советских вождей в сюжетах, где и не предполагалось присутствие фигуры отца, они также появлялись в сценах, где отсутствие главы семьи было нарочитым: «одомашнивание» личности вождя было результатом демографического воздействия войны. Это заметно, например, по большому количеству обложек «Огонька», где Ленин и Сталин помещены в домашнее пространство, как в случае с портретом Ленина-ребенка, магически парящим над головами нескольких женщин одной семьи и учащего уроки мальчика на обложке «Огонька» в январе 1952 года. Еще один подобный пример — новогодний номер «Огонька» 1951 года, на обложке которого изображена мать, восхищенно смотрящая на младенца в люльке, а на пианино позади нее стоит необычайно четкая фотография Сталина [488]. Тот же самый прием заметен и на любопытном плакате авторства Николая Жукова «Окружим сирот материнской лаской и любовью» (1947), где последствия войны были еще более очевидны: материнская забота об осиротевших детях здесь соотнесена с «отцовской заботой» Сталина, чей портрет висит на стене за кроватью ребенка. Вождь изображен с той самой девочкой Гелей, которая сама была сиротой [489].
На нескольких картинах, изображавших советскую семью, присутствуют и отец, и советские вожди. Работы наподобие «Первый раз в первый класс» (1945–1951?) Ахмеда Китаева и «Молодой семьи» Владимира Васильева (1953) (обе были опубликованы в «Работнице»), в которых не было военного подтекста, возвращали зрителя к знакомому метафорическому образу 1930‐х годов: на первый план выходили отношения матери и ребенка, а отец оказывался в большей степени наблюдателем, нежели участником происходящего [490]. На картине Васильева присутствовал портрет Максима Горького, а на куда более грубой по исполнению работе Китаева за семьей присматривает портрет Сталина — вновь вместе с Гелей, что как будто подчеркивает его отцовский статус. Любопытно, что в феврале 1951 года в «Огоньке» была опубликована ранняя черновая версия картины Пономарева «Новый мундир» в рамках публикации о творчестве этого молодого художника — на ней присутствовал неуклюже набросанный портрет Сталина, висящий на стене за спиной героя[491]. В окончательной версии картины Пономарев убрал этот портрет, поместив вместо него буфет вдоль стены, однако объяснений, почему художник произвел эту перемену, найти не удалось — можно лишь догадываться о причинах такого решения.
От написанных маслом картин до низкокачественных иллюстраций, от плакатов до обложек «Огонька» — присутствие Сталина в домашнем пространстве стало одной из определяющих особенностей первых послевоенных произведений, изображавших семейную жизнь. За исключением упомянутых работ Павлюка и Костенко, которые были обнаружены лишь в современных коллекциях живописи социалистического реализма, репродукции всех остальных изображений появлялись на страницах популярной печати, причем некоторые оказывались в центре внимания, как в случае с новогодней обложкой «Огонька» 1951 года. Плампер в работе об образе Сталина в визуальной культуре доказал, что ни одна манифестация его культа не могла состояться без санкции свыше [492]. Поэтому «одомашнивание» культа в направлении, заметном после 1945 года, не могло быть случайным, учитывая тот контроль, который Сталин или люди из его ближнего круга осуществляли над изображениями любых жанров, считавшимися подходящими для публикации. В атмосфере начинающейся холодной войны и существовавшего в стране потенциального разочарования в режиме эта тенденция могла свидетельствовать о потребности советской политической элиты отождествить себя с молодым поколением. Определенно не является совпадением то, что и Сталин, и (в меньшей степени) Ленин вводились в домашнюю сферу после масштабных мужских потерь, в тот момент, когда миллионы детей остались без отцов, а еще 8,7 млн детей родились у незамужних матерей в десятилетие после окончания войны [493].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: