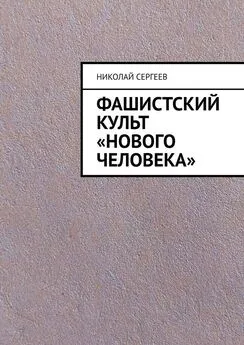Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Помогает тебе работать, отдыхать и играть» [546]: участливое отцовство в 1955–1964 годах
В декабре 1961 года в разворотном материале «Огонька», посвященном Всесоюзной художественной выставке, появились репродукции двух картин. На них репрезентировались два совершенно разных образа советской маскулинности: загорелые рабочие горячего цеха в работе Станислава Шинкаренко и молодой отец, которому мешает отдыхать его игривый сын, авторства Анатолия Левитина [547]. Поскольку в первых послевоенных работах, в центре которых был образ отца, присутствовал военный подтекст, они транслировали очень специфическое представление об отцовстве как таковом, хотя сами по себе были новаторскими. Напротив, фотографический жанр в последние сталинские годы давал более разноплановое представление об отношениях советских отцов со своими детьми, но и эти образы почти без исключения были сфокусированы на разного рода взаимодействиях, направленных на развитие в ребенке культурности, — в подлинно советском стиле основной акцент делался на чем-то производительном. Таким образом, лишь после 1953 года можно обнаружить присутствие в визуальной культуре отцов, которые активно участвуют в иной деятельности, а не только в образовании своего потомства. Это не означает, что в первые годы оттепели само представление об отце как о неотъемлемом участнике формирования морали и поведения ребенка утратило свой резонанс. Такие произведения, как картина «Новоселы» Дмитрия Мочальского, на которой изображен мужчина, читающий книгу своим маленьким детям в их новом доме на целине, открыто обращались к роли отца в образовании молодого поколения, задававшей тематику работ не только художников, но и фотографов [548]. Главное отличие, обнаруживаемое после 1953 года, заключается в том, что наряду с этими вполне традиционными развивающими видами деятельности начинают появляться и изображения мужчин, занятых чем-то бóльшим, нежели проведение времени со своими детьми.
В опросе об эмансипации полов, который провела в декабре 1961 года «Комсомольская правда», одна из молодых респонденток высказала следующее мнение:
Самое несчастное зрелище — это скучающий молодой отец, сидящий в парке в воскресенье с ребенком на руках. Ему 22 или 23 года, он хотел бы погулять с геологами по Ангаре с рюкзаком на спине или пойти в библиотеку или на каток, но вместо этого он сидит, в поте лица изображая обязанности образцового отца [549].
Отцовство для этой женщины выступало чем-то подавляющим мужчин, а не обогащающим их жизнь. С ее точки зрения, Новый советский человек должен находиться вне домашнего пространства: покорять природу или решать интеллектуальные задачи, не будучи ограниченным рутиной ухода за детьми. Хотя для женщины, написавшей это письмо, сам вид мужчины, постоянно занятого своими детьми, был поводом для насмешки, тот факт, что фоном для отношений отца и детей теперь выступало не только пространство дома, был одной из ключевых особенностей визуальной репрезентации отцовства в хрущевский период. Именно тогда отцы и их дети начали изображаться получающими удовольствие от времяпрепровождения на пляже, в парке или во время публичных мероприятий. Наглядным примером этого выступает упомянутая выше картина Левитина: перед нами произведение, где совершенно отсутствуют идея продуктивно проведенного свободного времени или некое представление о пресловутой культурности, — напротив, художник изображает семью, которая просто расслабляется. В названии этой работы — «Им нужен мир» — присутствует смысловая игра, поскольку именно так звучал общераспространенный лозунг антивоенного движения начала 1950‐х годов. Левитин изображает стремление родителей к покою, которому противопоставлено желание их маленького сына развлекаться и играть с отцом, но в то же время в контексте нараставших конфликтов холодной войны эта работа выглядит и размышлением о том, как война способна повлиять на подобные семьи. В короткой рецензии, опубликованной в «Искусстве» спустя несколько лет, критик Н. Волков почти ничего не сказал о тематике картины, помимо того, что на ней изображены «молодые, сильные и красивые люди», — вместо этого критика больше интересовало, как художник использует световые приемы и наложение краски для того, чтобы передать зелень луга и массивность тела мужчины[550]. Подобное внимание к реалистичности изображения природы и художественному использованию света было типичным для этого периода — его можно рассматривать как реакцию на бессмысленные ограничения и искусственность социалистического реализма сталинского периода [551]. Диапазон и повторяемость явлений в визуальной культуре слишком велики, чтобы связывать их только с тенденциями в мировом изобразительном искусстве, — все это свидетельствует о более значительном изменении статуса отцовства в советском обществе и его функции в парадигме Нового советского человека [552].
Две картины из триптиха «Семья» художников Алексея и Сергея Ткачевых посвящены отношениям отца и его ребенка. На картине «На мирных полях» (1964) отец и маленькая девочка находятся в центре семьи (муж, жена, ребенок, бабушка и дедушка), а на полотне «Отец» (1964) изображен мужчина, своими руками строящий новый дом, — он предстает перед нами без жены, но вместе с двумя маленькими детьми [553]. Критик Владислав Зименко в своей статье в журнале «Искусство», похвалив динамизм произведения Ткачева, вкратце обратил внимание и на сюжет «Отца». Ключевые вопросы для критика заключались в том, что именно заставило дочь этого молодого мужчины прижаться к нему с таким страхом и почему отец выглядит настолько озабоченным: потому ли, что он разлучен со своей женой; из‐за все более нараставших опасений по поводу мира во всем мире, или же он думает о будущем счастье и благополучии своих детей? [554] Зименко можно заподозрить в излишнем пессимизме в интерпретации этой работы: он описывает лицо мужчины как изможденное и отягощенное серьезной мыслью, но на деле, похоже, это лицо человека, кротко улыбающегося от радости, которую ему дарит ребенок. В предположении, что мужчина может быть в разлуке с женой, заставляет усомниться то обстоятельство, что он занимается строительством нового дома. Однако, как и в случае с упоминавшейся выше более ранней картиной Левитина, высказанная Зименко идея, что изображенные отношения являются проникновенным напоминанием о войне, демонстрирует, насколько этот мотив был укоренен в искусстве после 1945 года.
Хотя сюжет картины Ткачевых может быть открыт для интерпретации, очевидно, что изображенный мужчина находится в расцвете сил, что, впрочем, свойственно многим картинам того периода, в центре которых был образ отца. Конечно, с первых же дней революции советский мужчина был физически совершенным представителем рода человеческого, но телесность именно отцовской фигуры была не так важна для первых ее репрезентаций в домашнем пространстве: скрытое под военной формой мужское тело скорее подразумевалось — здоровье и хорошая физическая форма были не обязательны для подобных сюжетов. Но по мере того как советский отец переставал ассоциироваться с солдатом и на первый план выходил образ труженика, возникал новый акцент на телесности советского человека. Теперь отец все чаще изображался с накачанным телом, как на картине Левитина, или с сильными руками, как у героя картины Ткачевых, а также в произведениях Валентины Шебашевой и Андрея Тутунова (о них речь пойдет ниже). Запечатлевая работу, отдых или ручной труд, эти произведения как будто подчеркивали идею, что можно быть рабочим, добытчиком и одновременно заботливым и внимательным отцом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: