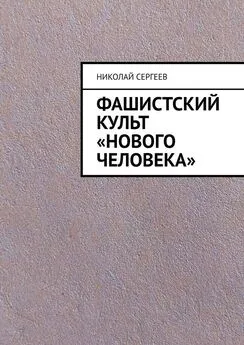Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сцена, на первый взгляд, представляющая семью на отдыхе, с точки зрения отца является эпизодом меланхолии и одиночества: в самом деле, картина Жилинского, ныне выставленная в Третьяковской галерее, описывается как воплощающая «разъединение даже между близкими друг к другу людьми… и мучительное одиночество современного человека» [588].
Как представляется, Жилинский был не единственным художником, обращавшимся к теме изоляции и отрешенности посредством фигуры отца. Примечательно схожими по своей тональности и композиции оказываются работы «Родился человек» Виктора Иванова (1964-1969) [589], «Рыбак с больным сыном» (1964) Андрея Тутунова [590], «Утро» (1967) Татьяны Коноваловой-Ковригиной [591] и «Семья в июле» (1969) Виктора Попкова [592], хотя из всех этих произведений публиковалась, похоже, только картина Коноваловой-Ковригиной. Как и на полотнах Попкова и Жилинского, отец опустошенно взирает с этого полотна на зрителя, а на картинах Тутунова и Иванова отец и вовсе повернулся к зрителю спиной — все это лишает наблюдателя возможности установить какую-либо подлинную эмоциональную связь с изображенными людьми. На картине Иванова это разъединение касается не только зрителя: в центре произведения оказывается разобщенность между мужчиной, читающим газету за столом, и его женой, полностью поглощенной кормлением грудью новорожденного.
На картине Тутунова, как и в его более раннем произведении «Первые шаги», напротив, как будто продемонстрирована отеческая забота.
Однако критик П. Никифоров в своем отзыве на картину «Рыбак с больным сыном» подчеркивал тот факт, что отец отвернулся от зрителя, а ребенок не предпринимает никаких попыток общения с отцом, и это создает неясность по поводу отношений между ними: «Действительно ли [художник] усматривает человечность в этой беспредметной тревоге, в этой неуверенности? Так ли он понимает красоту духовного мира нашего народа?»
В некотором смысле в работах наподобие картин Жилинского и Тутунова нет ничего экстраординарного — достаточно лишь взглянуть на цикл Коржева «Опаленные огнем войны», подвергнутую резкой критике картину «Геологи» Никонова или уже рассмотренные суровые образы военного товарищества, в которых отразилось совершенно иное представление о нем, нежели бравада, преобладавшая в подобных образах всего несколькими годами ранее. В данном контексте интересно не столько то, что этот сдвиг вообще состоялся (хотя само по себе значение этого не стоит недооценивать), сколько то, что одним из образов, постоянно использовавшихся некоторыми из наиболее выдающихся художников той эпохи для выражения ощущений неопределенности, изоляции и пессимизма, была именно фигура отца.
Для ряда исследователей возникновение этой меланхолической отцовской фигуры является характерным признаком общей атмосферы брежневской эпохи, ключевыми особенностями которой стали экономический застой и геронтократия. Хелена Госцило в своей оценке репрезентации отца в советском и постсоветском кинематографе утверждала, что «импотенция этих престарелых лидеров… определенно объясняет исчезновение способных к деторождению, влиятельных отцов в различных жанрах культуры с середины 1950‐х до 1990‐х годов»[593]. Однако ситуация, обнаруживаемая в визуальной культуре, ставит под сомнение оценку Госцило, согласно которой со смертью Сталина ушла в прошлое и позитивная и жизнерадостная отцовская фигура. Более того, пессимизм и неопределенность, которые обычно ассоциируются с «застоем», в действительности, похоже, начали пропитывать визуальную культуру с самого начала брежневской эпохи — хотя эти годы по-прежнему традиционно считаются частью периода оттепели, — что очевидно по образам отрешенных отцов у Жилинского и его современников. Опять-таки фигура углубленного в себя отца позволяет увидеть, что традиционное понятие «оттепели» не вполне совпадает по времени с обнаруживаемым нами сдвигом в репрезентации, а тенденции, заметные в визуальной культуре, не накладываются на тренды, выделяемые в других культурных формах. В таком случае изображение отца, подобно изображению военного, поднимает более масштабные вопросы относительно имеющихся у нас традиционной периодизации и сложившейся характеристики советского прошлого — а также относительно того, каким образом осмысляется единообразие советской культурной продукции при обращении к темам, которые были резонансными для всего общества того времени.
В рамках нашего анализа визуального конструирования отцовства после Сталина остается рассмотреть еще один — на сей раз последний — ряд произведений, которые возвращают нас к тому, с чего началась эта книга — а именно к наследию Великой Отечественной войны. Даже те артефакты визуальной культуры, которые обнаруживаются на страницах популярных журналов (где выходила лишь малая часть создававшихся в масштабах всей страны произведений), не оставляют сомнений, что события войны, ее последствия, а также память о ней постоянно заботили художников, хотя те или иные тенденции стирались и угасали, а к жестокой правде о цене победы удалось приблизиться лишь спустя годы. В центре проблемы, решавшейся художниками, были сами советские люди: их опыт на фронте и в тылу, радость возвращения домой, боль утраты, физические увечья и эмоциональные раны, не все из которых зажили. Именно по этой причине совершенно логично, что наиболее распространенным мотивом при обращении ко всей полноте военного опыта был микрокосм общества — семья. Но если вернуться к взаимосвязи между войной и отцовством после 1953 года, то подобных произведений в оптимистичные годы оттепели было немного, поскольку появление образа отца в это время, как правило, было связано с идеей новой жизни и новыми начинаниями. Исключением из этого правила было появление совсем небольшого количества работ, которые обращались к теме ухода на фронт: в конце 1950‐х годов она нашла выражение через отношения отца и ребенка, но в 1960‐х произошло смещение акцента на боль разлуки между мужем и женой [594]. Отсутствие военного контекста и исключительно позитивные изображения отцовства в визуальной культуре контрастируют с кинематографом того времени, где, наоборот, бросалось в глаза отсутствие отца. В отличие от изобразительного искусства, в кино периода оттепели при обращении к теме отношений отца и ребенка зачастую сохранялся военный подтекст, поскольку утрата родителя во время войны представала либо объяснением беспутной юности, а затем и преступности сына, либо как повод для преданности ребенка советским идеалам [595]. Александр Прохоров интерпретирует эту тенденцию как неразрывно связанную с процессом десталинизации и как способ воскрешения героической памяти об ушедших отцах и освобождения их от ассоциации со сталинскими преступлениями: поскольку отцы отдали жизни за государство, созданное Лениным, сыновья станут чтить это наследие, завершив социалистический проект [596]. В то же время отцы в кинематографе периода оттепели были также и суррогатными фигурами, бравшими на себя ответственность за воспитание ребенка, который не был их собственным, — как правило, осиротевшего во время войны, — чтобы обеспечить этому ребенку будущее счастье. Наиболее известным выражением этих мотивов является «Судьба человека» в экранизации Бондарчука [597].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: