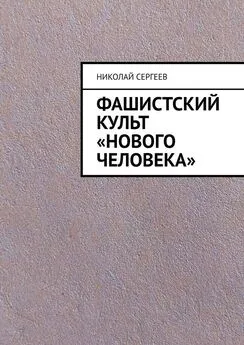Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта некомпетентность мужчин в заботе о ребенке в пределах дома контрастирует не только с несомненно положительными изображениями отцов, проводящими время с детьми за пределами дома, но и с теми немногими карикатурами, где отцы и их дети предстают на публике. Хотя подобные изображения встречаются реже, чем аналогичные сцены в домашней обстановке, карикатуры, на которых отец и младенец изображались за пределами дома, зачастую были основаны на представлении о гордости, а не о плохих родительских навыках: наиболее распространенным способом выражения этого мотива был образ мужчины с детской коляской. На одной из таких картинок, опубликованной в 1964 году в «Огоньке», лицо мужчины буквально лучится, когда он везет свою тройню в коляске затейливой конструкции в форме ракеты; на опубликованной спустя год аналогичной карикатуре под названием «Новичок» изображен сияющий молодой отец, толкающий коляску, украшенную огромным предупреждающим дорожным знаком [580]. Поскольку карикатура была единственным жанром, действительно обращавшимся к домашним и родительским обязанностям мужчины, она более полно отображала представления об отцовстве в годы оттепели. Хотя здесь возникает дополнительная сложность сравнения отличающихся друг от друга видов визуальной культуры (в первую очередь потому, что задача карикатуры — произвести юмористический эффект, поэтому она по самой своей природе преувеличивает и расширяет границы реального), примечательно то, с какой легкостью на разных изображениях отцы действовали в публичном пространстве, занимаясь спортом, ходя на пляж, гуляя, а в некоторых случаях и отдыхая от работы, в сравнении с теми беспорядком и хаосом, к которым приводили их попытки ухаживать за детьми в приватном пространстве. Изображение Тутуновым отца и его маленького сына является уникальным живописным воплощением этих отношений внутри дома и лишь подчеркивает, в какой степени представление об отцовстве в то время было ориентировано на публику. В отличие от самых первых визуальных образов отцовства, в фокусе которых почти всегда оказывалось домашнее пространство, отцы периода оттепели принадлежали к новому обществу, а родительские задачи мужчины во всех жанрах представлялись как факт повседневной жизни, а не как нечто основанное на отрыве от нормы, как это было до 1953 года.
Однако, хотя активный, вовлеченный и эмоционально открытый отец теперь выступал ключевым выразителем идеи, что значит быть настоящим советским мужчиной, изображения, сосредоточенные на домашнем пространстве, похоже, подразумевают, что в случае более прикладных аспектов заботы о детях, таких как смена пеленок, кормление и купание, наиболее компетентной фигурой по-прежнему оставалась мать [581].
Отцы на обочине. Изображение отцовства после 1964 года
Несмотря на то что в 1965 году образы отцовства не были столь резонансными, как те, в которых присутствовал военный контекст, после завершения эпохи Хрущева способ презентации мужчин-родителей отчетливо изменился, особенно в изобразительном искусстве.
Остались в прошлом оптимистические картины счастливых семей и новой жизни, а на их место пришли задумчивые и меланхоличные работы. Это не означает, что крушение мифа об идеальной семейной жизни было тенденцией брежневской эпохи: конфликтам, которые могли существовать внутри семей, находилось место в живописи еще с 1950‐х годов, что наглядно показывает картина Сергея Григорьева «Вернулся» (1954). Она изображает отца, вернувшегося в семью, которую он когда-то бросил. Мужчина сидит рядом с игрушечным чайным сервизом, с которым совсем недавно играла его маленькая дочь.
Реакция его семьи многогранна: от явной покорности жены до гнева старшего сына и страха дочери, прячущейся за стулом и сжимающей в руках своего плюшевого мишку [582]. Аналогичным образом Гелий Коржев на картине «Уехали…» (1955) представил боль расставания, испытываемую молодым отцом, которому в память о его семье осталась только пластмассовая уточка [583]. Комментарии в популярных изданиях не обходили стороной эти отнюдь не радостные работы: картина «Вернулся» в апреле 1954 года была представлена на двухстраничном цветном развороте в одном из номеров «Огонька», где присутствовали и выдержки из некоторых отзывов, оставленных посетителями выставки, где была выставлена эта работа. Из этого краткого обзора можно сделать вывод, что подобные комментарии были исключительно одобрительными: один из посетителей выставки назвал работу «умной и нужной картиной», а другой, житель Киева, закончил свою восторженную оценку простым утверждением «Мне нравится эта картина». Автор этого обзора В. Климашин предположил, что «ни один советский зритель не пройдет равнодушным мимо этой острой картины», «образовательные достоинства [которой] невозможно отрицать» [584].
Если обратиться к иному контексту, то еще одной нишей, где можно обнаружить отнюдь не соответствующее идеалу представление о советской семье, оказываются карикатуры в «Крокодиле». Как говорилось выше, карикатуры, подвергавшие разносу расслабленное существование некоторых представителей советской молодежи, регулярно появлялись с середины 1950‐х годов и далее в 1960‐х годах. В основе многих из более ранних подобных изображений лежало представление о том, что за отсутствием продуктивной деятельности этих подростков и их увлечением фривольными темами стоит именно плохое выполнение родителями своих обязанностей. Это можно видеть по таким карикатурам, как «У отца за пазухой» (1957), на которой изображены молодой человек, залпом пьющий вино, и девушка, накладывающая макияж, — они предаются этим занятиям, сидя в карманах пиджака своего отца [585]. В последующие годы подобная риторика претерпит изменения, поскольку отцов станут рассматривать как жертв тлетворного поведения их детей, как в карикатуре художника Щеглова, появившейся на одной из обложек «Крокодила» в 1965 году.
На ней двое представителей молодежи держат отца вверх ногами, чтобы вытрясти деньги из его карманов. Однако образ плохого отца не исчез полностью из карикатуры. Хотя рисунки, на которых отец представал злоупотребляющим физической силой, не участвующим в воспитании своих детей или плохим примером дисциплины, были далеко не столь распространены, как работы, посвященные общению «золотой молодежи» с родителями, им тоже находилось место в «Крокодиле» [586].
В конце 1960‐х годов изображение отца несколько отличалось от того, что обнаруживается на этих обличающих карикатурах: отец, конечно, не подавался как «плохой» сам по себе, а скорее становился более далекой и отсутствующей фигурой, вместе с тем определенно оставаясь одним из элементов визуальной репрезентации семейной жизни. Одним из первых примеров этой тенденции является картина Дмитрия Жилинского «Семья» (1964, известна также под названием «У моря»). Наряду с Коржевым, Жилинский был одним из выдающихся художников 1960‐х годов, и хотя стиль и тематика работ этих авторов значительно отличаются, оба они демонстрировали интерес к внутренней жизни советской личности, привнося в социалистический реализм психологическое измерение. Для творчества Жилинского, испытавшего глубокое влияние фресок эпохи Возрождения и иконописи, были характерны прямота и отчетливое использование перспективы, также художник обычно прибегал к матовому колориту — по утверждению критика Зименко, подобный стиль придавал картинам Жилинского «отполированную тонкость и элегантность, … простую, но звучную гармонию тонов, … наделяя весомостью даже скромные лирические сцены повседневной жизни» [587]. Персонажами картины «Семья» фактически являются сам Жилинский со своей женой Ниной Ивановной и двумя их детьми — Дмитрием и Ольгой. Перед нами предстает молодая семья, которая наслаждается свободным временем на берегу моря вместе с множеством других семей, расположившихся на дамбе позади. Однако Жилинский вполне буквально помещает отца, то есть самого себя, в другой бытийный план — отец отделен от них, поскольку находится в воде, а остальная семья оказывается выше, на бетонном парапете. Это не просто физическая дистанция: тот факт, что пристальный взгляд мужчины обращен к зрителю, а не направлен на его сына, который пытается схватить пойманную отцом рыбу, также создает ощущение его эмоциональной отдаленности от жены и детей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: