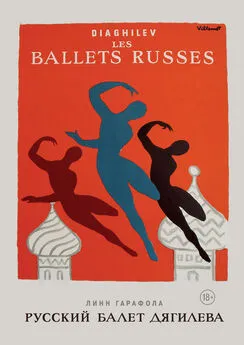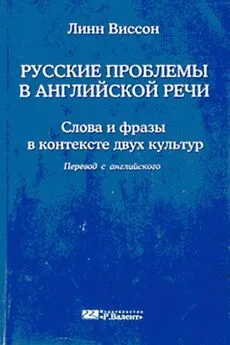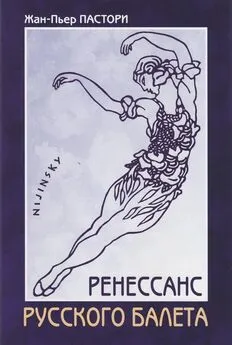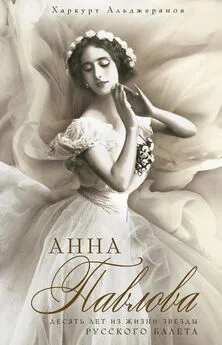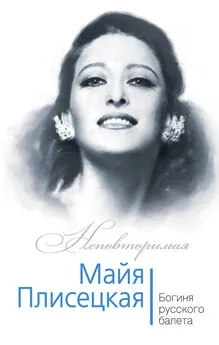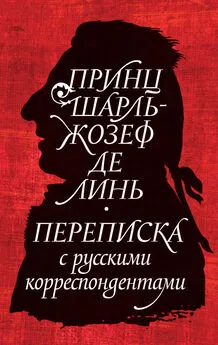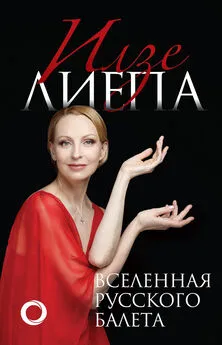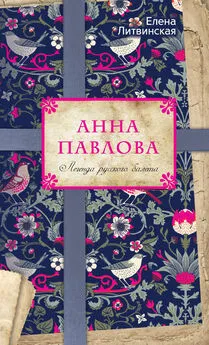Линн Гарафола - Русский балет Дягилева
- Название:Русский балет Дягилева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-19984-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линн Гарафола - Русский балет Дягилева краткое содержание
«История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство… На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Русский балет Дягилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, весной 1925 года Дягилев оказался на очередном финансовом распутье. Он вновь столкнулся с задачей, решение которой так часто требовало его изобретательности прежде: где искать деньги на новые постановки, на приглашение новых артистов, на проведение новых экспериментов?
Доход от продажи билетов вряд ли мог разрешить эту проблему. Ангажементы чаще всего были краткосрочными – максимум две недели в Турине и Барселоне, несколько выступлений в Ла Скала [608], – а кассовые сборы – неутешительно скудными, как во время рождественского сезона в Берлине, когда «мало кто пришел посмотреть на нас» (так писал Григорьев на следующий день после открытия гастролей [609]). В Париже в середине десятилетия увлечение Дягилевым также пошло на спад. Сезоны становились все короче, а ангажементы «почти при любых обстоятельствах [означали] определенные убытки» [610]. В Парижской опере, где Дягилев вновь появлялся в 1927 и 1928 годах, выплату твердой суммы гонорара заменила сложная формула, выгодная театру: Дягилев получал процент от выручки лишь после вычета налогов и выплаты театру внушительной суммы. Валовая выручка от спектакля, показанного 27 декабря 1927 года, составила 90 445 франков, из которых Дягилеву досталось менее 41 000. В декабре следующего года фиксированные вычеты удвоились до 50 000 франков за каждое из трех выступлений [611]. Даже в Лондоне, куда труппа вернулась в ноябре 1924 года, впервые со времен провала «Спящей принцессы», не удалось собрать требуемой суммы. Хотя Русский балет оставался популярным, его доходы – в 1925 году это было всего 1200 фунтов стерлингов в неделю за два выступления в день в программе варьете – еще больше сократились из-за выплат организации Столла, пока долг труппы не был ликвидирован [612]. Погашение долга Столлу, однако, было ничтожным в сравнении с суммарной задолженностью Дягилева. Привычка занимать у одного, чтобы вернуть долг другому, по-прежнему преследовала его, а переписка с адвокатами 1925–1926 годов представляет собой печальную повесть о невыплаченных долгах и судебных исках: Дягилев против Бевике и многих других – Гульбекяна, Полиньяк и даже Нижинского, от чьего лица подала на импресарио в суд его жена Ромола, основываясь на восстановленных документах о южноамериканском турне 1918 года [613]. И, как всегда, Дягилев откладывал выплату авторских отчислений композиторам и издателям до тех пор, пока последние не начинали судебную тяжбу.
В 1918 году Лондон «спас» Дягилева. Через восемь лет Англия вновь пришла Дягилеву на помощь в лице одного из магнатов крупного бизнеса. С появлением лорда Ротермира Русский балет стал участником малоприятной связи между поступлением денег и новой политикой, основанной на личных пристрастиях.
Григорьев вспоминал:
Однажды Дягилев пришел на репетицию в сопровождении высокого дородного господина с приятным лицом английского типа. По такому случаю было принято прерывать репетицию: Дягилев приветствовал труппу, пожимал руки режиссеру, хореографу и ведущим танцовщикам… Ритуал исполнили и в этот раз, причем Дягилев представил нам гостя, сказав, что лорд Ротермир – пылкий поклонник нашего балета и всегда, когда имеет время, присутствует на спектаклях; он уже не один год следит за нашим развитием и хотел бы посмотреть, как идет создание спектакля. Затем Дягилев и лорд Ротермир сели, и, как мы заметили, последний очень внимательно наблюдал за репетицией [614].
Визит лорда Ротермира в студию в Монте-Карло состоялся в начале 1926 года. К марту он уже был «добрым ангелом» труппы.
В отличие от финансовой элиты, которая составляла прежний круг людей, поддерживавших Дягилева, Харольд Сидни Хармсуорт, виконт Ротермир был относительным новичком в мире изящных искусств. Основной владелец «Дейли мейл» и ряда других лондонских газет, он располагал большим состоянием и имел влияние в Британской империи, укрепившей свои позиции в военные годы. Русский балет был для него не первым опытом театрального покровительства. Ранее в это десятилетие он поддерживал постановку «Опера нищего», выдержавшую более тысячи исполнений, а также – недолгое время – труппу Павловой. Леди Ротермир, расположение которой Дягилев также пытался снискать, удостаивала своим вниманием начинания более утонченного толка: с 1923 по 1925-й ее щедрость питала журнал Томаса Элиота «Критерион» [615].
Несмотря на свои миллионы, лорд Ротермир был истым предпринимателем, и его поддержка, как и можно было предположить, состояла в большей степени в гарантиях, нежели непосредственно в ссудах. В марте 1926 года Дягилев получил первый дар магната – «гарантию в 2000 фунтов», необходимую для проведения независимого сезона следующим летом в Лондоне. (Представление о размерах благодарности Дягилева можно получить из его записки, написанной на английском языке, а не на привычном ему французском.) Договоренность о том, что Ротермир возьмет на себя часть или всю гарантийную сумму – в размере тысячи фунтов в 1927 и 1928 годах, – оставалась в силе до конца десятилетия. Эти гарантии спасли труппу от разовых выступлений в мюзик-холлах и необходимости танцевать двенадцать раз в неделю, позволив Дягилеву работать в обход посредников, диктовать свои условия в политике продажи билетов и оставить за собой львиную долю доходов, полученных в одном из крупных театров Уэст-Энда. Как говорил уже после смерти импресарио лондонский агент Дягилева Эрик Вольхейм, труппа «никогда не могла обойтись без гарантий» [616].
К концу 1920-х годов Дягилев уже был опытным мастером изящного искусства манипуляции. В лице лорда Ротермира, однако, он встретил человека, не только равного себе в этом отношении, но и даже более умелого, чем он сам. Заманивая обещанием денег, газетный магнат требовал взамен то, что ему причиталось; используя свою власть и политику личных отношений, он вел игру, которая усугубляла неопределенность положения труппы в ту пору.
Связь Ротермира с Алисой Никитиной, танцовщицей труппы, которая стала его любовницей, или, говоря ее собственными словами, «приемной дочерью», была неприятным эпизодом, о котором говорили повсюду. Ее талант танцовщицы был вне сомнения, но то, что она заслуживала места в Русском балете, которое он мог купить на свои деньги, – весьма спорно. Зимой 1928 года ее амбиции привели к кризису, который чуть не разрушил сколоченную на скорую руку финансовую конструкцию Дягилева:
Эрик [Вольхейм] путешествовал с покровителем и Алисой. Покровитель не хотел, чтобы знали о его приезде на Ривьеру… Он не разрешает ей танцевать никакие роли, кроме главных… Ничего не будет делать без нее. Она жалуется, что приходится делить с другими «Кошку» и что она получила только одну из трех [новых] ролей – в не особо интересном «Аполлоне». Эрик точно знает, что одного слова Алисы будет достаточно для того, чтобы все уладить с лондонским сезоном и финансовыми условиями [617].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: