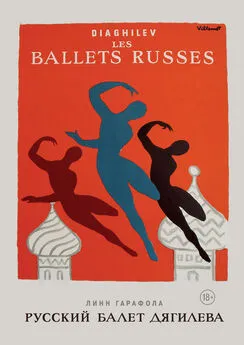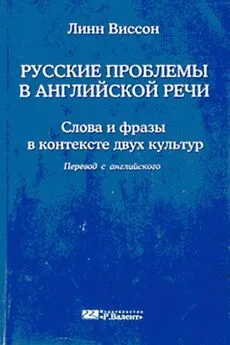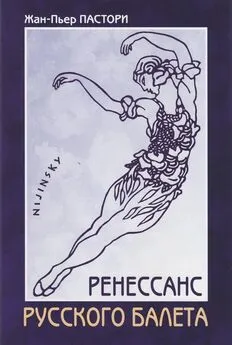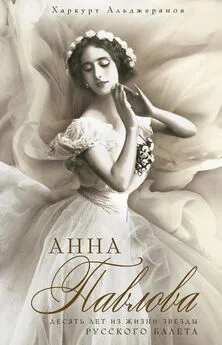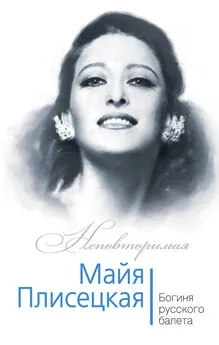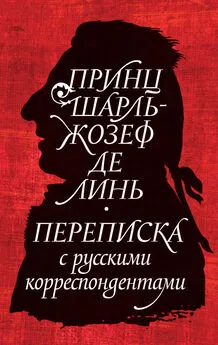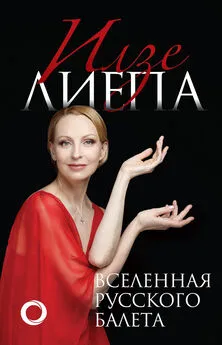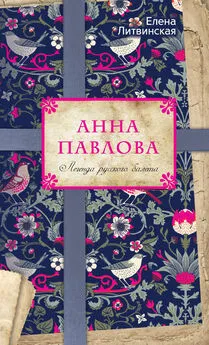Линн Гарафола - Русский балет Дягилева
- Название:Русский балет Дягилева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-19984-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линн Гарафола - Русский балет Дягилева краткое содержание
«История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство… На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Русский балет Дягилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такие покровители, как Ротермир, не появляются по первому требованию даже в привилегированной среде, где вращался Дягилев. Меценаты принадлежали к вымирающему виду; после Первой мировой войны они стали встречаться еще реже. Поэтому, когда Ротермир внезапно прекратил свою поддержку, Дягилев столкнулся с очередным периодом острой неопределенности. В попытках собрать деньги он разрезал на части декорацию Пикассо к спектаклю «Треуголка» и по частям продал ее вместе с кусками задника для «Квадро фламенко», в чем ему помог агент художника Поль Розенберг [618]. В то же время оказалась близка к осуществлению договоренность о гастролях по Америке в конце осени 1928 года: учитывая отвращение Дягилева как к морским путешествиям, так и к Соединенным Штатам, это было верным признаком отчаяния. Как и другие американские гастроли, намечавшиеся в 1925–1926 годах, ставших еще одним из периодов финансового беспокойства, они так и не состоялись [619].
Яркая фигура Бродвея, Э. Рэй Гёц, который приложил руку ко многим театральным проектам, впервые заговорил об американском ангажементе, когда пребывал на летнем отдыхе в Лидо в 1927 году. В течение нескольких месяцев было достигнуто предварительное соглашение, хотя, исходя из прежнего опыта Дягилева, это никоим образом не значило, что гастроли состоятся в ближайшем будущем. Тем не менее с прекращением покровительства Ротермира и последовавшим финансовым кризисом труппы тон переговоров изменился. Демонстрируя невиданную готовность к компромиссам в вопросах состава труппы, мест выступлений и прав на съемку, Дягилев теперь стремился поскорее окончить переговоры. В последнюю неделю мая стороны были готовы к заключению контракта, и Гёц даже телеграфировал Дягилеву по поводу постановки балета на музыку оркестрового произведения ранее работавшего с продюсером Джорджа Гершвина – балета, который позднее стал известен как «Американец в Париже». Несколько недель спустя начались переговоры с Оливером Сейлером по поводу рекламы, включая выставку «картин из коллекций [Сержа] Лифаря, созданных театральными художниками для Русского балета» [620].
После открытия сезона 25 июня в Театре Его Величества, но еще до указанного в черновике контракта крайнего срока – 28 июля [621] – проект потерпел неудачу. В письме Отто Кану, одному из своих американских поручителей, Гёц описывал последовательность событий, которая могла показаться подозрительно знакомой спонсору дягилевских гастролей в Метрополитен:
Я хочу, чтобы вы знали, что мой отказ от этого плана был связан только с тем, что Дягилев показал себя… весьма неблагоразумно в ходе окончательных переговоров, которые я вел с ним в Лондоне в течение более десятка дней. Вопреки предварительному соглашению… он не гарантировал участие артистов, которых я просил включить в труппу, и к тому же не соглашался с моим выбором репертуара балетов и не позволял мне самому выбрать номера для открытия [622].
Решение прекратить переговоры было связано, однако, не только с условиями соглашения. Лишь за несколько дней до крайнего срока выполнения контракта лорд Ротермир вновь раскрыл для импресарио свою чековую книжку. Более того, в промежутке с апреля по июль у труппы возникло покровительство, характер которого был весьма близок сердцу барина старой закваски. В Париже Дягилев обнаружил золотую жилу в лице англичан – преданных поклонников балета, собравших необходимую для гарантии сумму. С этим открытием в закулисную хронику Русского балета вошла леди Джульет Дафф – дочь леди Рипон, которая покровительствовала Дягилеву до войны. Теперь неблагодарная задача поиска средств легла на плечи этой chère et bonne amie [623], чья «доставшаяся по наследству энергия», как писал Дягилев, «вновь была предназначена… чтобы спасти» его антрепризу [624].
В 1928-м, а затем в 1929 году леди Джульет смиренно направилась с протянутой рукой к состоятельным лондонским дамам. Можно лишь сострадать ее доброму сердцу, которое пронзил Дягилев – и к призывам которого оказались глухи его поклонники. В 1929 году никто не спешил открывать ридикюли, а то, что все же из них извлекалось, мало помогало делу: три сотни фунтов от Курто, текстильных миллионеров и щедрых поручителей новых концертов Курто-Саржан; пара сотен гиней от леди Кунард, которая выделяла по 5000 фунтов в год на поддержку Британской Оперной лиги. К чему же относилась с таким пренебрежением старая торговая элита – к балету вообще или к Дягилеву в частности? Или просто сам характер покровительства изменился и старая элита, подобно новой, теперь требовала компенсации в виде общественного признания? Леди Джульет не удалось собрать 2000 фунтов стерлингов, которые требовались Дягилеву для его последнего сезона в Ковент-Гарден. Основная поддержка вновь исходила теперь от лорда Ротермира, пусть даже данные им пять сотен фунтов и бесплатная реклама предоставлялись на условии, что Никитина вернется в труппу, «будет получать оклад, равный окладу первой балерины, и при любой возможности выступать в главных ролях» [625].
В период с 1923 по 1929 год Дягилев обеспечивал экономическую основу Русского балета двойной поддержкой – Общества морского побережья и английских поручителей. Новые финансовые соглашения, столь же неожиданные, сколь и удачные, привели к ряду изменений в труппе. Сняв «популистское» обличье периода выступлений в мюзик-холлах, Русский балет принял идеологию своих новых покровителей. Об искусстве и его финансировании уже шла речь на этих страницах; вновь и вновь это сложное и меняющееся соотношение определяло деятельность труппы, изменяло содержание, стиль ее работы и то, как ее принимала публика. До Первой мировой войны творческие поиски, запросы публики и финансирование существовали в относительной гармонии. Модернизм, однако, сильно пошатнул это равновесие. Его эстетика бросала вызов традиционному художественному вкусу как элиты, так и массовой публики, даже если его финансирование и распространение зависели от ресурсов оперной и мюзик-холльной сцены. Несмотря на это фундаментальное несоответствие, модернизм процветал благодаря поразительной способности Дягилева «упаковывать» его в постановки и программы, доступные широкой театральной публике. В 1918–1921 годах, однако, был ясно виден конфликт между привязанностями Дягилева: человек искусства в нем присягал на верность авангарду, в то время как предприниматель делал свою антрепризу доступной как всему Парижу, так и массовой сцене Лондона.
Тем не менее с 1923 года картина утратила ясность. Не было единого направления, которое могло бы собрать труппу под его знамена, единого течения, магнита, вокруг которого могло бы сконцентрироваться ее своеобразие. Напротив, в этот период в своей истории – последний и самый сложный – Русский балет, казалось, потерпел неудачу в гонке за художественной новизной, такой же безумной, как дягилевские поиски капитала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: