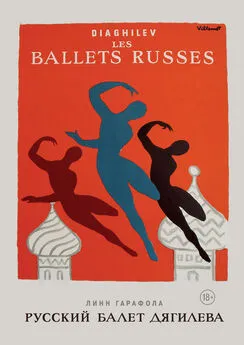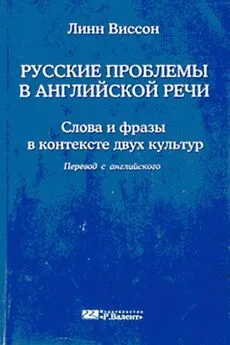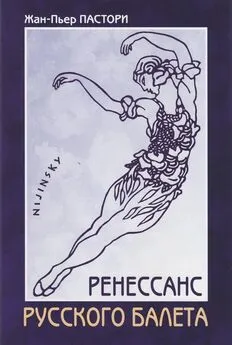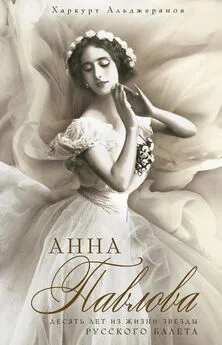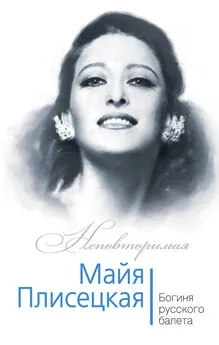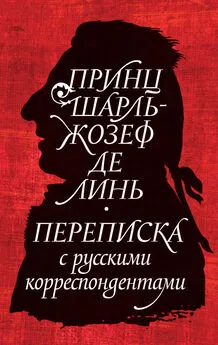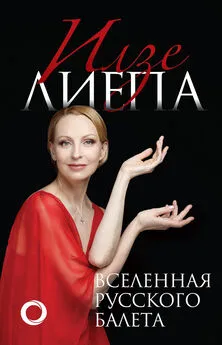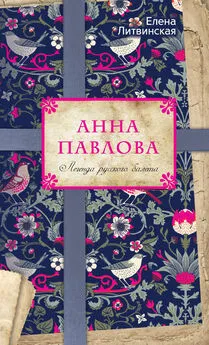Линн Гарафола - Русский балет Дягилева
- Название:Русский балет Дягилева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-19984-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линн Гарафола - Русский балет Дягилева краткое содержание
«История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство… На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Русский балет Дягилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На предыдущих этапах единство художественной цели было связано с органичным взаимодействием социального и экономического факторов в работе над постановкой. Тем не менее с 1923 по 1929 год те стабильные факторы, которые руководили Дягилевым при переговорах, касавшихся вначале мира музыки, а затем и коммерческой сцены, уступили место плюрализму влиятельных интересов. Теперь вместо сети антреприз, объединенных общим духом, за право руководить тем, как труппа проживет оставшуюся часть десятилетия, соперничала «тройка» сил. На почве противопоставленных друг другу аристократических традиций Монте-Карло, художественного консерватизма лондонских «серых кардиналов» и рыночного духа парижского мира искусства возникли те эстетические противоречия, которые отличали Русский балет в этот период – период его наибольшей изменчивости, истинно протеевской сущности.
Заключенные Дягилевым с Обществом морского побережья соглашения обеспечили Русскому балету необходимый минимум средств, который труппа получала на всем протяжении двадцатых годов. В эти лучшие времена его пребывания в Монте-Карло заключенные договоренности обещали нечто большее, чем просто новое финансовое подспорье. На берегу, где яхты лениво покачивались неподалеку от вилл, разбросанных на склоне над лазурными водами моря, запах мимозы напоминал о благоухании Belle Époque , а гостиницы, носившие такие названия, как «Эрмитаж», возвращали к мечтам об имперском величии. В крохотной стране, которую сделала богатой рулетка, Дягилев совершил свой последний ход в сфере изящных искусств, куда ему не было пути в России.
В его заметках 1922–1923 годов, которые хранятся в библиотеке Парижской оперы [626], запечатлен амбициозный размах его планов: проекты фестивалей и выставок, опер и балетов, которые, как ему представлялось, должны привнести в спокойную обстановку курорта дух художественного брожения и эксперимента. В разные периоды жизни Дягилев увлеченно набрасывал на бумаге свои грандиозные планы. Но, в отличие от черной тетради 1910 года или «рабочей тетради», которую он вел в 1918–1919 годах [627], в его записках из Монте-Карло не говорилось ни о составе артистов, ни об окладах, ни о репертуаре: это было скорее описание того, как ум Дягилева блуждал по забытым дорогам его музыкального прошлого.
В ходе экспериментов, которые осуществлялись в военные годы, настоящее властвовало над дягилевским воображением ничуть не меньше, чем прошлое. Теперь же именно прошедшее завладело его мыслями. Но у прошлого, как и у настоящего, много лиц; и то из них, которое Дягилев предпочел показать, носило черты аристократического происхождения оперного театра. Облачившись в одеяния придворного, самозванец, который открыл русское искусство Западу, а современное искусство – обывателям, теперь пел хвалебную песнь идеалу аристократизма, воплощенному, хоть и в абсурдно малых масштабах, в правящей в Монако династии Гримальди.
Дягилеву не удалось превратить Монте-Карло в передовой художественный центр. Более того, после стольких лет существования в условиях рынка возрождение Русского балета на площадке, закосневшей в придворных традициях оперного театра, имело последствия, которые оставались заметными вплоть до конца десятилетия. Эти отзвуки прошлого, часто совмещенные с самым вульгарным модернизмом, стали главным аккордом в эстетическом диссонансе той поры. Они объясняют обилие тем XVIII века в новых балетах, таких как «Искушение пастушки», «Докучные» и «Зефир и Флора», и в комических операх, которые стали главной частью программы фестиваля французской музыки 1923–1924 годов. Классическая мифология, излюбленная тема придворного балета grand siècle , вновь появилась в нескольких постановках тех лет: среди новых спектаклей это были «Зефир и Флора», «Филемон и Бавкида», «Кошка», «Аполлон Мусагет», среди возобновлений – «Дафнис и Хлоя», «Нарцисс» и «Послеполуденный отдых фавна». Другие балеты тоже отдавали дань придворным традициям: «Менины», извлеченные из закромов в 1924 году; «Лебединое озеро», поставленное в двухактной версии для выдающейся классической танцовщицы из Мариинского театра Веры Трефиловой; «Свадьба Авроры», одноактная сокращенная версия «Спящей принцессы», которая стала источником дохода труппы, и «Ода» – кантата, прославляющая Екатерину Великую. В какой-то момент Дягилев даже предполагал возобновить «Павильон Армиды». (В действительности он этого не сделал, но версия танца Шутов из этой постановки была включена в дивертисменты, показанные в Новом концертном зале под названием «Пир».) А в числе гала-концертов того периода в Зеркальном зале Версаля был показан внушительный спектакль – «Свадьба Авроры», где было изменено время действия, добавлены церковные гимны и вокальные интерлюдии, – напоминавший о grandes fêtes , которые лицезрел в той же самой галерее сам «король-солнце».
Был и еще один фактор, который подпитывал эту ауру аристократизма: волна титулованных русских беженцев, которая хлынула во Францию после 1920 года и присоединилась к славянскому сообществу Дягилева. По крови и социальным связям Дягилев принадлежал к этому кругу эмигрантов. Он разделял их радость от встречи с друзьями и семьей, нашедшими убежище на Западе, и их тревогу за родственников, оставшихся в России [628]. Примечательно, что на памяти людей этого круга Дягилев никогда не выступал против Советского Союза. Однако его чувства по поводу существовавшего там режима, как и его политические пристрастия, неясны. Дягилев не оставил дневников, и было найдено лишь несколько писем, где говорилось о его личных переживаниях. Тем не менее видно, что с 1922 года интерес Дягилева к советской художественной жизни усилился. В августе того года, будучи на отдыхе в Венеции, он ужинал с Айседорой Дункан, которая только что провела десять месяцев в Советском Союзе, и ее мужем поэтом Сергеем Есениным [629]. В ноябре Дягилев был в Берлине – крупнейшем русском издательском и культурном центре за пределами Советского Союза, – где встретился с еще одним поэтом, связанным с советским авангардом. Как и двумя годами позже, Маяковский убеждал Дягилева побывать в России [630].
Интерес Дягилева к родной стране разжигали и другие события: приезд в Париж Камерного театра Александра Таирова в марте 1923 года и растущее число выставок, благодаря которым у советских художников появились последователи в кругах парижского авангарда. Такие обмены, в организации которых важную роль играл Михаил Ларионов, свидетельствовали о необыкновенной жизнеспособности постреволюционного искусства, что не могло не восхищать Дягилева, и говорили о большом уважении, каким он продолжал пользоваться в советских художественных кругах [631].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: