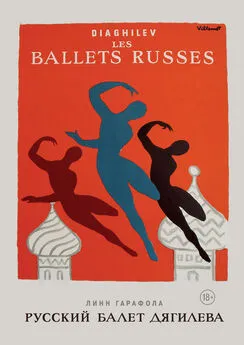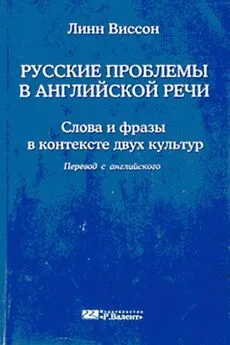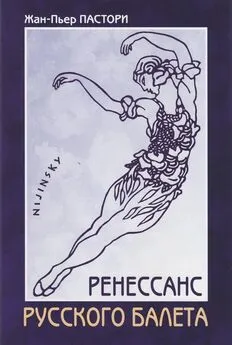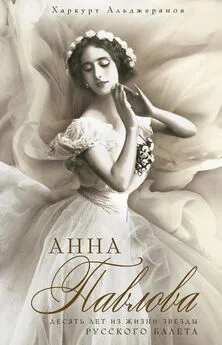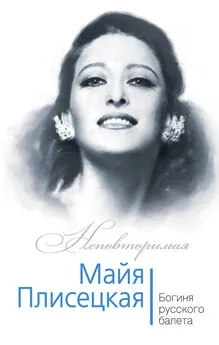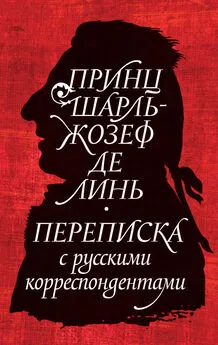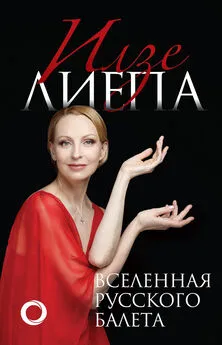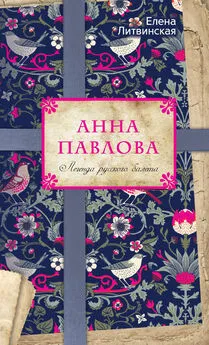Линн Гарафола - Русский балет Дягилева
- Название:Русский балет Дягилева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-19984-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линн Гарафола - Русский балет Дягилева краткое содержание
«История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство… На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Русский балет Дягилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Положение, в котором находились танцовщики Дягилева, вряд ли позволяло им консолидировать свои усилия. Пусть они и угрожали устроить забастовку, труппа сама по себе была разрознена, и многие танцовщики уже подыскивали себе другое место. Вряд ли нужно напоминать, что гарантий стабильности работы не существовало. Странствующие артисты не могли рассчитывать и на льготы или на пособие по безработице. Их положение в тот период позволяет проводить аналогии с историей забастовки актеров в Лондоне не только из-за экономических проблем, но и из-за конкуренции, на фоне которой разворачивалась драма обнищания труппы. Если в 1910 или 1911 году русские танцовщики могли диктовать свои условия, то теперь даже таким опытным, как Соколова, приходилось обивать пороги в поисках работы. Эмиграция из России, темпы которой ускорились в период ленинской новой экономической политики, создала еще один источник конкуренции, в особенности из-за того, что среди эмигрантов были и участники довоенных сезонов Дягилева. В конце десятилетия дети эмигрантов, часто происходившие из семей, которые до революции никогда бы не избрали для своих отпрысков сценической карьеры, также включились в гонку за рабочими местами.
Ярчайшие звезды труппы могли сохранять – и сохраняли – свою независимость вопреки натиску конкуренции. Лидия Лопухова, которая в 1921 году зарабатывала у Дягилева 100 фунтов стерлингов в неделю, требовала подобных же гонораров на сцене мюзик-холлов. Карсавина также смогла пережить двадцатые годы и выдержать конкуренцию благодаря выступлениям с Русским балетом в качестве приглашенной балерины, независимым гастролям и мюзик-холльным ангажементам. После Второй мировой войны ее муж Генри Брюс вспоминал:
Тамаре тогда было легко достать деньги, и ни разу в то время нам не пришло в голову, что в сравнительно недолговечной карьере танцовщицы жалованье может восприниматься не как доход, а как капитал. Поэтому мы в первую очередь арендовали огромный автомобиль, а затем большой дом со всей обстановкой за плату, которая, как я теперь понимаю, была для того времени баснословной, но казалась лишь каплей в потоке заработанных Тамарой денег [588].
У большей части танцовщиков жизнь не была столь обеспеченной. Лопухова, которая в 1924 году пошла на сокращение своего гонорара вдвое только ради возможности выступать в «Парижских вечерах», в письмах своему будущему мужу, экономисту Джону Мейнарду Кейнсу, упоминала о нищенском существовании большинства артистов: «[Николай] Легат… принял от меня 10 фунтов… с достоинством добрых старых времен… Ко мне приходили на чай [Михаил] Мордкин, его жена, его ребенок, ее партнер по танцу и его партнерша по классическому танцу. Ох, жизнь так сложна… Как я понимаю, они едут в Америку без заключенного ангажемента. Конечно, у них хороший материал… и Мордкин – это имя… но все это имеет привкус меланхолии». Повсюду Лопухова видела одно и то же: «отсутствие работы и голод» – и конкуренцию [589]. Записывая свои впечатления о молодой русской танцовщице, она отмечала:
Русская девушка танцевала с большим темпераментом, у нее были красивые тело и головка, но она не умела танцевать. Четырнадцатилетняя, в сопровождении «мамаши». Я поговорила с ней, – она танцевала в Париже у Клемансо и Ротшильдов! Ее приглашали танцевать в клубе Ciro’s, но разве это не унизительно? Я сказала, что конкуренция настолько велика, что неважно, танцевала она в Альгамбре, в Ciro’s, в Колизеуме или в любом другом месте – обучение важнее всего! [590]
Экономические сложности вкупе с отсутствием надежного трудоустройства и гражданства, с которыми столкнулось столь значительное число артистов послевоенной дягилевской труппы, вели к повышенной зависимости от организации, ставшей как для русских, так и для прочих покинувших родину талантов временной, суррогатной семьей, пристанищем в жестоком мире эмиграции. Нинет де Валуа писала:
Чтобы в полной мере понять театральную жизнь Русского балета, нужно помнить, что в русских государственных училищах артисты жили замкнутой жизнью; теперь же дух эмиграции еще больше связал их между собой – оторванных от страны, где они родились, снабженных паспортами, выданными в Женеве… Казалось, они носят свои жизни за спиной, в мысленно-эмоциональном рюкзаке, набитом воспоминаниями о прошлом, тревогой о настоящем и надеждами на будущее [591].
Эту «семью» держала под своим крылом благодетельная, но далекая от нее фигура Дягилева: он был для них властелином, который правил посредством янычаров своего двора, «дядюшкой», к которому можно было обратиться в трудную минуту. «Пожалуйста, организуйте мой немедленный отъезд из Вены, – телеграфировала Бронислава Нижинская, прибывшая на Запад с семьей, которую необходимо было кормить. – Я хочу работать с Вами». Как свидетельствуют воспоминания Соколовой, во многих случаях Дягилев старался оказать помощь и поддержку артистам из своей труппы. Доброта эта, однако, была того же качества, что и послевоенный образ Дягилева – величественного барина , управляющего всем, – и была чужда отеческому отношению прошлых лет. Если в 1909–1910 годах, а затем в 1915-м труппа по своей форме была коллективной антрепризой, то в начале двадцатых годов она вызывала мысли о возврате к царизму. Это напоминание о прошлом шокировало Сержа Лифаря, юношу «с советской земли», когда он прибыл в «свободный город… Русского балета». «В ней царствовали еще какие-то крепостнические начала, – вспоминал он. – Артисты посылали мальчиков из кордебалета за папиросами и за пивом – совсем как ремесленники своих подмастерьев!» [592]Собственническое поведение Дягилева по отношению к танцовщикам можно оценить по строкам письма, написанного им в 1926 году Чарльзу Кокрэну вслед за «побегом» Веры Немчиновой на сцену ревю:
Вы конечно же знали, что мадам Немчинова была моей подопечной и что именно у меня она обучалась танцу в последние десять лет… Позвольте мне по-дружески добавить, что у меня вызывает огромное сожаление… то, как Вы эксплуатируете русских артистов, которых я открыл и воспитал. Дукельский, пишущий плохие фокстроты для мюзиклов, делает не то, для чего он предназначен; Мясин, танцующий в вечерних клубах и сочиняющий хореографию в стиле «Помпеи а-ля Мясин», опасным образом компрометирует себя; точно так же Немчинова не создана для ревю… Я осмеливаюсь сказать Вам об этом потому, что мы с Вами давние друзья. Нужно создавать постановки и артистов, а не использовать тех, кого сотворили другие в целях, совершенно отличных от Ваших, и в атмосфере, не имеющей ничего общего с тем, что делаете Вы – и зачастую делаете очень неплохо [593].
За собственнической позицией Дягилева, которая поддерживалась внутренним устройством его труппы и превратностями танцевального рынка, скрывались крупные экономические планы. Начиная с военных лет резервами Дягилева все в большей степени оказывались его танцовщики. Частично или полностью не выплаченные жалованья, безустанный труд танцовщиков и шаткость их положения превратились в средства, которые помогали труппе выжить. До 1914 года Дягилев пользовался счастливой возможностью быть лояльным по отношению к своим артистам. Теперь, в послевоенном мире, где предложение намного превышало спрос, танцовщики его труппы стали вкладывать в его антрепризу добавочную стоимость своего труда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: