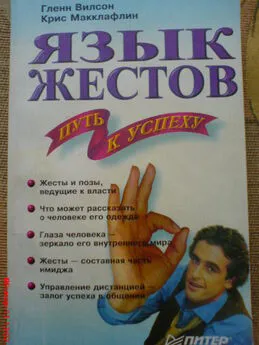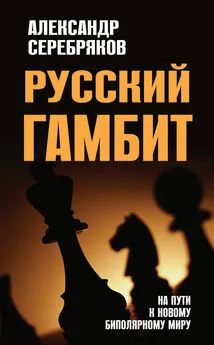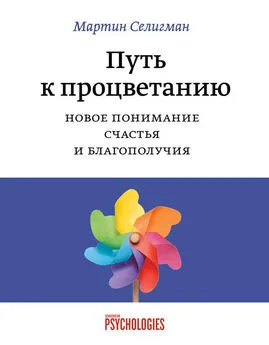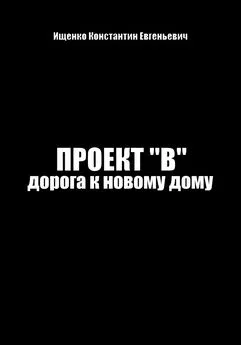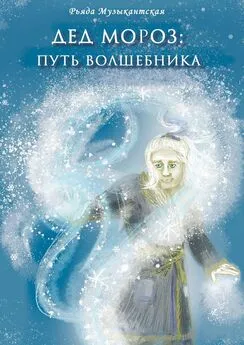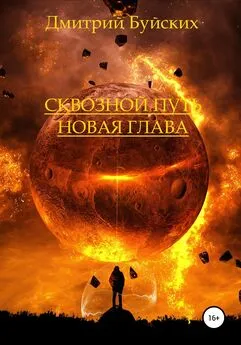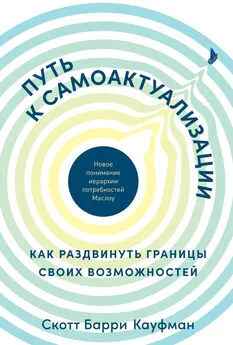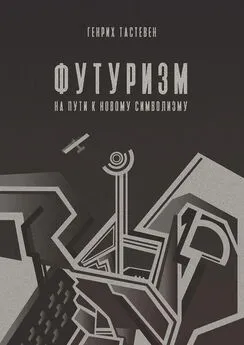Николаус Арнонкур - Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки
- Название:Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николаус Арнонкур - Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки краткое содержание
Перевод по изданию: Nikolaus Harnoncourt, “Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverstandnis”.
Автор книги пожалуй, самый знаменитый дирижер-аутентист нашего времени НИКОЛАУС АРНОНКУР
"Прежде, чем играть трудную романтическую литературу, обычно получаешь музыкальный "корм" из барочных произведений. Я был очень разочарован, находил их скучными и стерильными. С другой стороны, я читал, что современники приходили от этой музыки в неистовство — бросались на пол, рвали на себе одежду. Тогда я подумал: мы делаем что-то не так" (Nikolaus Harnoncourt)
Благодаря ценнейшей информации, которую читатель найдет буквально в каждом разделе этой книги, открываются совершенно новые возможности прочтения хорошо известных музыкальных текстов.
Главная цель автора, как представляется, состоит в том, чтобы спасти музыку Барокко даже не от забвения, а от чего-то худшего, чем забвение, — от непонимания.
Для исполнителей и любителей старинной музыки, всех интересующихся историей музыки и современной культуры
Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сам Леопольд I был не только страстным меломаном, но также весьма неплохим сочинителем музыки. Писал мессы, оратории, танцы, немецкие песни и интермедии к композициям, созданным придворными музыкантами. Часто удовлетворялся созданием мелодии, а ее обработку и инструментовку доверял своим музыкантам — Бертали или Эбнеру. Несмотря на то, что австрийская государственная казна постоянно зияла пустотой, а зачастую была даже должницей, члены придворной капеллы получали истинно королевское жалованье. В любом случае их можно рассматривать как предшественников нынешних высокооплачиваемых “звезд” классической музыки. Готлиб Евхариус Ринк, императорский капитан, писал о Леопольде I и его капелле: “Император — это большой артист в музыке (... ); если и существовало что-то в мире, доставлявшее ему наслаждение, то это несомненно — хорошая музыка. Она умножала его радость и умаляла печаль; можно сказать, что из всех развлечений самыми приятными для него были минуты, которые приносил хорошо подготовленный концерт. Особенно это было заметно в императорских покоях. Несмотря на перемены мест резиденции, происходящие обычно четыре раза в год (переносились из Бурга в Лаксенбург, оттуда в Фавориту, а потом в Эберсбург), везде в одной из комнат находился драгоценный спинет, у которого император проводил все свободные минуты. Его капелла действительно могла считаться самой лучшей в мире, и не удивительно; ведь император сам экзаменовал кандидатов в нее, и ценились они за свои профессиональные качества, а не по протекции (... ). Глядя на большое количество опытных артистов в ней, можно догадаться, во сколько это обходилось императору. Многие из них были дворяне и получали вознаграждение, позволявшее им жить в соответствии с их сословием. Если император бывал на концерте своего непревзойденного оркестра, то ощущал огромное наслаждение и так внимательно вслушивался, будто бы впервые (... ). Если появлялся пассаж, который ему особенно нравился, то закрывал глаза, чтобы слушать еще внимательнее. А слух имел удивительно острый: среди пятидесяти исполнителей мог уловить, кто из них применил несоответствующий штрих”.
Кроме венской придворной капеллы, в краях, где правили Габсбурги, существовали еще и другие оркестры, составленные соответственно вкусу их владельцев и пользовавшиеся особым вниманием императора. Важнейший из них принадлежал князю-архиепископу из Оломоуца — графу Карлу Лихтенштайну-Кастелькорну. Этот богатый князь церкви выстроил себе огромную летнюю резиденцию в Кромериже. В сфере музыки он особенно ценил эффектные сольные выступления. В свой ансамбль привлекал самых лучших солистов, среди которых — много чешских и австрийских музыкантов. Каждый из них одновременно был и композитором, в итоге этот чрезвычайно виртуозный оркестр становился могучим художественным стимулом для появления огромного количества оркестровых и камерных произведений, которые отличались от всего, что создавалось в то время во всем мире. Даже император так восхищался этой капеллой, что дважды в год приезжал в Кромериж наслаждаться музыкой. Придворные композиторы писали довольно смелые произведения для “капеллы Лихтенштайна”, поскольку надеялись на хорошее их исполнение. Во главе этого блестящего коллектива архиепископ поставил гениального скрипача и композитора Хайнриха Бибера. Собственно, благодаря ему оркестр пополнил свой репертуар чудесными композициями, хотя, с другой стороны, развитие творчества Бибера не было бы возможным без инспираций, исходивших от этого коллектива. Например, огромное количество замечательных сольных партий для трубы было написано для первого трубача Павла Вейвановского, позже унаследовавшего обязанности Бибера. Были там также знаменитые тромбонисты, фаготисты и флейтисты. Смычковые инструменты были изготовлены лучшим мастером того времени Якобом Штайнером из Абсама.
Зальцбургский архиепископ также содержал замечательную придворную капеллу, как и большинство других князей. Все они строили великолепные дворцы, где облицованные мрамором залы были не только прекрасным архитектурным эквивалентом для музыки, но и обеспечивали идеальный резонанс.
Конечно, итальянская музыка в Вене не могла существовать в неискаженном виде. Этот город всегда был горнилом, в котором переплавлялись всевозможные стилистические направления. Главные, фигуры отдельных центров музыкальной жизни в течение веков встречались тут между собою на относительно нейтральном грунте. Здесь можно было услышать итальянских, нидерландских, английских и французских музыкантов. Кроме тесных контактов со славянской и венгерской культурами, прибавлялись еще и ориентальные влияния. Наряду с итальянской и французской музыкой здесь исполнялась венгерская, чешская и австрийская народная музыка, а в результате все стили взаимно переплетались и влияли друг на друга. И уже в XVII веке можно было говорить о формировании очень характерного австрийского стиля, в котором элементы, почерпнутые из других стилей, объединены с итальянской формой. Благодаря тесным контактам с Италией в Вене появилась опера — самая свежая музыкально-драматическая новинка начала XVII века, вскоре нашедшая тут свою вторую, чрезвычайно благосклонную, родину. Вена в XVII веке стала одним из самых значительных центров итальянской оперы. Почти все выдающиеся оперные композиторы творили здесь некоторое время. В их операх много чисто инструментальной музыки: вне танцевальных интермедий, писавшихся исключительно балетными композиторами, существовали также инструментальные интерлюдии; также часто сюда вплетались концерты. Хотя танцевальные интермедии строились вообще по французскому образцу, во многих из них использовались народные мелодии, о чем свидетельствуют хотя бы некоторые названия: Штайермаркер, Хорн, Гавотта тедеска, Штириаца, Бёмишер Дюделъзак и прочие. Но наряду с этим итальянские оперные композиторы писали собственные инструментальные интерлюдии. Обозначенные названием Sonata, они бывали — особенно у ранних композиторов — вообще пятиголосными. Их форма выводилась непосредственно от итальянской Canzon da sonar. Эти многоголосные “Сонаты” не надо путать с классическими сонатами, предназначенными для сольных инструментов. Во времена Леопольда стилистическими полюсами инструментальной музыки были итальянская соната и французская сюита. Оба направления, бывшие длительное время в оппозиции один к другому, в Австрии удалось соединить в новую чарующую общность. Это осуществили гениальные композиторы Муффат, Фукс, Шмельцер и Бибер.
Георг Муффат интересует нас сейчас особенно потому, что в предисловиях к своим произведениям исчерпывающе рассмотрел все возможные вопросы относительно стиля и интерпретации. Кроме того, небудничная судьба помогла ему стать превосходным экспертом в сфере разнообразия стилей. Он учился в Париже у Люлли, после чего прибыл в Вену, где встретил благосклонность Леопольда I, потом оказался в Зальцбурге у архиепископа в качестве придворного композитора. Называл себя первым “люллистом” Германии. Тем не менее, архиепископ послал его для дальнейшего усовершенствования в Италию. Там появились Concerti grossi в стиле Корелли, которым Муффат дает прекрасную характеристику в предисловии: “Это первый сборник моих концертов, объединяющий серьезность и веселость, которые посвящаю Тебе, мой дорогой Читатель; своим названием он (сборник) обещает наиболее изысканные созвучия инструментов, в которых находится не только чистое наследование стихийности и соблазнительности мелодий балетов господина де Люлли, но и определенные торжественные и утонченно патетические места в итальянской манере и разнообразная игра музыкальной фантазии (... ). Этот замысел появился у меня, когда, углубляя в Риме итальянскую манеру игры на органе и клавесине под руководством господина Паскуини, с удивлением прислушивался к симфониям господина Корелли, которые исполнялись чрезвычайно прекрасно и очень старательно большим количеством музыкантов”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: