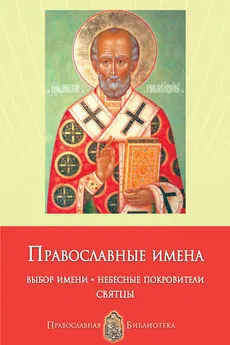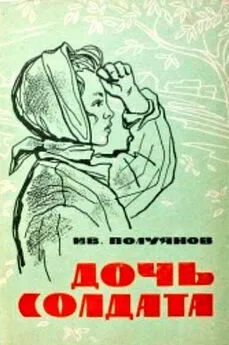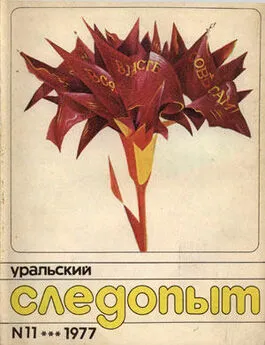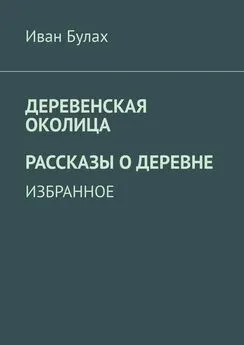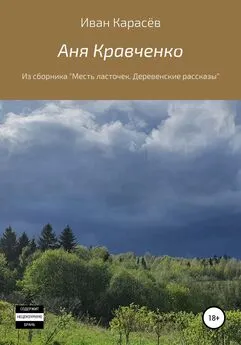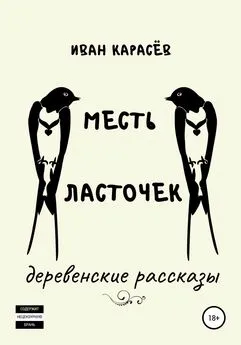Иван Полуянов - Деревенские святцы
- Название:Деревенские святцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Технологическая школа бизнеса
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Полуянов - Деревенские святцы краткое содержание
Книга известного вологодского писателя И.Д.Полуянова заново открывает для читателей почти забытую традицию народного творчества. Автор в буквальном смысле слова реконструирует устные численники-месяцесловы, своего рода деревенские святцы, тесно связанные со святцами духовными. В противоположность нынешним сухим и строгим календарям, связывающим лишь день недели и число, раньше каждый день был наособицу, и только ему сопутствовали определенные приметы, меткие речения, прибаутки, песни, обряды. Деревенские святцы органично и функционально вписывались в быт русской деревни. В них ярко и выпукло отразилась духовная жизнь крестьян.
О днях празднования Входа Господня в Иерусалим, праздника праздников — Пасхи, Вознесения, Троицы, а также сырной седмицы — масленицы, о постах, днях памяти святых, о молитвенном почитании чудотворных икон, других торжествах Православия подробно говорится в «Православном церковном календаре», выходящем в свет ежегодно. Некоторые даты приведены здесь — по месяцам, предваряя рассказ о земледельческом годовом круге устных народных месяцесловов.
Деревенские святцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца для военного сословия, с изменением статуса награды георгиевскими медалями, крестами отмечался и героизм солдат, унтер-офицеров на поле боя.
Отставной служака в те времена имел большие льготы, привилегии: уходил крепостным — становился вольным с женой и потомством, месяц участия в военных кампаниях приравнивался к году по выслуге лет. Вдовы-купчихи охотно выходили замуж за отставников, кавалеров царских наград: будь и миллионное состояние, по мужу не плати налогов. Ну, а в деревне георгиевскому кавалеру исправник козырял, господин волостной писарь с ним за руку здоровался.
Только сразу усвоим: образ, запечатленный деревенскими календарями, и светлый витязь икон, храмовых росписей мало в чем внешне совпадают. От века к веку само имя по-мужицки переиначивалось — с Георгия на Юрья, с Юрья на Егора.
Жития святых олицетворяют святого Георгия идеальным воином, рыцарем без страха и упрека. На иконах он поражает копьем змея-дракона, вступаясь за беззащитную жертву насилия, спасает жизнь, эту истинную красоту мира. И в устных сказаньях, передававшихся из поколения в поколение, Егорий — ратоборец, вступивший в бой против темных сил. Приданы ему черты сказочного героя, подобного Иванушке, что на сером волке скакал вызволить от Кощея Бессмертного Марью-красу.
Почтили деревенские святцы благовестников весны — грача, жаворонка, пигалицу-настовицу, воздали должное лисе и зайцу, отвели медведю вотчину, — за серым, что ли, черед? «Любо не любо, а на волке своя шуба», — говорилось простецки, с наивной прямотой, да мысль заключена глубокая.
В одном лице скотопас и волчий пастырь: через Егорья проповедовалось право на жизнь всего сущего. Понятно, этим не избавлялись хищники от преследования. Другую, нравственную, цель ставили деревенские святцы — едино высокой человечностью можем мы подняться над природой.
«Все зверье у Юрия под рукой», поэтому выпадает милостивцу на волка садиться, верхом пути-дороги мерить, дабы скорым вмешательством оборонить добро и в наказанье злу разослать волчьи стаи.
Ходили встарь легенды про то, как волк бел, в сиянье святом, пречудном, примчал раз в поместье и барину-пакостнику, гораздому девок портить, горло вырвал.
Качали мужики головами, перемаргивались:
— Волк? Белый?
— Светлый! Не пикнул барин-то…
— Ну дак: «что у волка в зубах, то Егорий дал»!
С Севера пришло присловье: «без скота нет житья». Однако «скотина водится, где хлеб родится».
Хлеб — скот — пахарь… Золотое ковалось кольцо: человек — земля — жизнь!
Снег не сошел, что бывало у нас накануне Егорья, а детвора бегала вокруг изб с конскими и коровьими боталами, шаркунцами, колокольчиками для овец. Подражая Карюхам, комолым и рогатым Красулям, ребятня взбрыкивала — по деревне звон. Снег, холод пугнуть кроме них некому!
Тепло, тогда праздник по полному раскладу, с утра по позднюю ночь.
Молодежь, подростки, приодеты, холщовые сумки через плечо, затемно грудились ватагами.
Егорьевский обход дворов как бы повторял песенно Коляду. Разумеется, если обряд был в ходу, не сошел на нет.
Перед воротами, под окнами кричали обходчики:
Уж мы к дому подходили,
Хозяина будили:
«Встань, обудися,
Умойся, утрися,
Егорию помолися!»
Егорий, батько храбрый,
Макарий преподобный!
Спаси нашу скотинку,
Всю животинку —
В поле и за полем,
В лесе и за лесом,
За лесом-лесами
За крутыми горами!
Волку с медведем —
Пень да колода,
По-за море дорога!
Зайцу с лисицей —
Горькая осина
По самую вершину!
Ворону с вороной —
Камешек дресвяный!
Матушке скотинке,
Всей животинке —
Травка-муравка,
Зелененький лужок
Петушок, топчися,
Курочка, несися,
Хозяюшка, добрися!
Дай нам яичко
Егорию на свечку,
Дай нам на другое
За наши труды,
За егорьевские.
Мы Егорья окликали,
Трои лапти изодрали,
По бороздкам раскидали.
Спозаранок скутана печь: жар в загнет сгребен, устье заслоном заставлено, труба закрыта. В кути под холстиной «отдыхают» пшеничные пироги, ватрушки, загибеня-тресковик, у загнета скворчит саламата, булькают наваристые щи.
— Андели мои просужие, чем вас и одарить, — засуетится стряпуха. — Ужо сметанки вынесу… Кринку токо верните!
В каждом доме ждут часа желанного.
— Выгоняют… — вбежит мальчонка, запыхавшись. — Мам, выгоняют!
Хоть на обогрев, да потребно скот выпустить из хлевов: истосковался за зиму по волюшке.
Иконами благословляли коров — отчеством Власьевных, лошадей — Юрьевичей. Подносили буренкам хлеб с солью на печной заслонке: запомните чад родного очага, с пастбища возвращайтесь доиться, в лесу не ночуйте. Скормить хлеб, сбереженный от Чистого четверга, значило «запереть волчью пасть замком».
Пестрели улки-проулки яркими сарафанами, передниками, полушалками.
Гомон, топот, мычанье.
Реют с визгом ласточки: прилетели, ведь «Егорий и касатку не обманет!» Взапуски горланят петухи…
Состоялось ли шествие скота на выгон, погода ли помешала — Егорий искони чествовал гуртоправов.
Отношение деревни к ним отличалось двойственностью. Труд скотных пастырей оплачивали щедро, для вологжан, архангельцев пастушество числилось в выгодных отхожих промыслах: работа с Егорья до Покрова давала семье прожиток на год. Общество обеспечивало пастуха одеждой, кожаной обувью, он кормился по дворам: чего пожелает к столу — нет отказа.
Тем не менее свои не шли в пастухи, нанимались пришлые, со стороны.
Обязывался скотопас к зарокам: нельзя стричь волосы, ломать березу и можжевельник, перепоручать кому-либо посох и рожок, зорить птичьи гнезда и тому подобное. Возбранялось ему знаться с выпивкой, носить из лесу на продажу грибы, ягоды, раскладывать костры, кроме положенных мест, и многое другое.
Важнейшее требование на Севере было, чтобы пастух владел «оберегом», «книжкой» — рукописью заклинаний на сохранность стада от падежа, воровства, потрав. Он вознаграждался вдвойне, коль умел совершать «обход»: молча или с нашептываниями оберега замыкать пастбище, в углах его возжигая крошечные костры-теплинки, таская за собой какой-нибудь железный предмет, и тем создавать незримое, неодолимое ограждение перед медведями широколапыми, волками рыскучими, змеями, гадами ползучими. Оберег пастухов Тотемского уезда упоминал монахов, попа с попадьей — словом, тын железный, огненная река перед любым, кто покушается на овечек, на коровушек.
В глуши тайги ограничивались обходом, скот пасся без надзора за осеками, по лесам, болотам. Жители Беломорья, летом промышлявшие рыбу, порой коров прихватывали с собой на тони и становища.
А в Костромской губернии, владей пастух игрой на рожке, ни о каких книжках с него не спрашивалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: