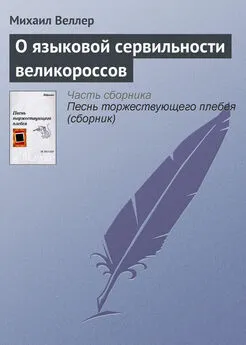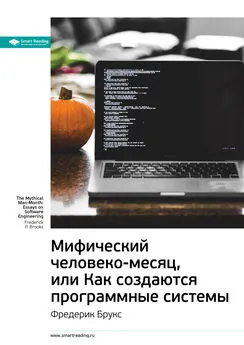Михаил Шелякин - Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы
- Название:Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:5-89349-829-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Шелякин - Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы краткое содержание
В книге развивается идея об адаптации языковой системы к биосоциальным особенностям человека и осуществлению им коммуникативного процесса как главном факторе функциональной, системно-структурной и знаковой (семиотической) специфики языка. В качестве иллюстративной языковой системы послужил главным образом русский язык в его общих с другими языками свойствах. В соответствии с поставленными задачами в книге объясняется специфика четырех семиотических измерений языка – языковых знаков, их семантики, синтактики и прагматики, чему подчинена структура книги. В аспекте «Язык и человек» особо рассматривается проблема «Язык и культура».
Для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей филологических факультетов вузов в качестве учебного пособия по курсам "Введение в языкознание", "Общее языкознание", "Семиотика языка".
Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В. Гумбольдт назвал условно указанные два типа слов «объективными и субъективными корнями» и отметил их особенности по отношению к словообразованию: первые способны выступать как производящие для других слов, вторые «очевидно отчеканены самим языком. Значение их не допускает никакой широты, а напротив, всегда являются выражением четкой индивидуальности; такое выражение было необходимо для говорящего, и оно в известной степени могло сохраниться вплоть до завершения процесса постепенного обогащения языка» [Там же: 115].
Своеобразную и интересную трактовку отражения принципа эгоцентризма в языке предложил И.А. Бодуэн де Куртенэ в своей статье «Язык и языки» (1904 г.). Он употребляет в ней общий термин «эгоцентризм», подразделяя его на «субъективный» и «объективированный». К отражению первого типа эгоцентризма он отнес: а) применение «закона перспективы», согласно которому «по мере удаления от места, на котором мы находимся или на котором себя чувствуем, различия между предметами становятся все меньшими и все более исчезают, более отдаленное ассимилируется и поглощается более близким. Отсюда множество, состоящее из одного только 1-го лица (я) и из других лиц единственно только 2-х (ты) и 3-х (он, она), воспринимается как 1-е лицо множественного числа (мы); множество же, состоящее хотя бы только из одного 2-го лица (ты), в соединении со многими 3-ми лицами, воспринимается как 2-е лицо множественного числа (вы); б) всевременное значение формы настоящего времени (типа: птицы летают), которое он назвал «усиленным настоящим», видимо, имея в виду то, что его устанавливает говорящий. Под «объективированным эгоцентризмом» И.А. Бодуэн де Куртенэ понимал «эгоцентризм общественный, массовый (стадный), эгоцентризм учреждений и господствующих воззрений на взаимные отношения, с одной стороны – между людьми и другими существами, с другой – между разными группами и классами человеческого общества». Этот эгоцентризм отражается, по его мнению, на наличии в языках категорий грамматического рода, выражающих различие двух полов и отсутствие пола (мужской, женский и средний), и на «привилегированном» положении форм мужского рода как проявлении привилегированного положения лиц мужского рода, когда во множественном числе формы женского и среднего рода ассимилируются и поглощаются формой мужского рода: в русском правописании прилагательные во множественном числе имеют «мужское» окончание -ие (-ыё), вытеснив особые формы множественного числа женского рода на ~ия (~ыя); в польском языке прилагательные, местоимения и глагольные отыменные образования, относящиеся к лицам мужского рода множественного числа, формально отличаются от соответствующих параллелей, относящихся к предметам и существам женского и среднего рода: например, dobrzy — «хорошие, добрые» и dobre, wysoci — «высокие» и wysokie, ci — «те» и др. [Бодуэн де Куртенэ 1963, X II: 79—81].
В дальнейшем лингвисты стали относить к означаемым эгоцентрического характера и глагольные грамматические категории лица, времени и наклонения. А.М. Пешковский называл их «субъективно-объективными» [Пешковский 1956: 88—91], В.Г. Адмони – «коммуникативно-грамматическими» (Адмони 1955: 11—12], А.В. БоНдарко, вслед за чехословацкими лингвистами, – «актуализационны-ми» с выделением среди них «ориентационных», содержащих в своей семантике отношение к говорящему как точке отсчета при выражении временных и персональных значений [Бовдарко 1976: 50, 60]. С концепцией эгоцентрических грамматических категорий связана интерпретация Р. Якобсоном так называемых «шифтеров» (подвижных определителей, англ. shift – «перестановка, передвижение») в статье «Шифтеры, глагольные категории и русский, глагол», т.е. категорий, характеризующих сообщаемый факт и/или его участников по отношению к факту сообщения либо к его участникам [Якобсон 1972:95—113].
К ним он относил грамматические категории лица, времени, наклонения и засвидетельствованности. Последние две категории Р. Якобсон считал «шифтерами» потому, что они отражают точку зрения говорящего на характер связи между действием и деятелем или целью и на источник его сведений о сообщаемом (по терминологии А.В. Бондарко они являются «неориентационными», так как не включают говорящего как точку отсчета в измерении выражаемых отношений).
Большое значение придавал эгоцентризму в языке Э. Бенвенист, посвятивший этому принципу специальную статью «О субъективности в языке» и ряд других работ, объединенных в разделе книги «Общая лингвистика» под названием «Человек в языке» [Бенвенист 1974]. Под субъективностью в языке он понимал «способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта» «в том акте речи, где я обозначает говорящего», осознающего себя в противопоставлении другим [Там же: 293, 296]. Это осознание говорящего как субъекта проявляется в категориях лица, в личных местоимениях и других классах местоимений (указательных), наречиях, прилагательных, организующих «пространственные и временные отношения вокруг субъекта, принятого за ориентир: это, здесь, теперь, завтра и т.д., в категории времени, которая выражает время по отношению к акту речи, а также в перформативных глаголах, являющихся при употреблении одновременно актом выполнения действия говорящим «я»: я обещаю, клянусь, гарантирую....... [Там же: 296—2991.
Концепции отражения в семантической системе эгоцентрического принципа получили развитие в работах Ю.С. Степанова, предложившего теорию трех типов грамматической абстракции – номинации, предикации и локации, характеризующих всю грамматическую систему, а через нее и язык в целом, поскольку язык выполняет три функции: «назвать и классифицировать (номинация), привести названное в связь друг с другом (предикация), локализовать названное и приведенное в связь в пространстве и времени (локация)» [Степанов 1975: 122]. Под грамматической номинацией Ю.С. Степанов понимает классифицирующие именные и глагольные классы слов, объединенные тем или иным общим семантическим признаком (одушевленные и неодушевленные существительные, части речи, глагольные виды, именные классы существительных и др.), под предикацией – «абстракцию связей между предметами (а также между признаками и действиями)», а под локацией – «абстракцию отношений человека к месту и времени речи», или иначе принцип я – здесь – сейчас» [Там же: 131, 136]. Отсюда выделяются следующие координаты: а) координата «я» дает начало категориям глагольного лица и категориям числа (при обобщении отношений «я – мы»), б) координата «здесь» – категориям падежа и предлога и в) координата «сейчас» – категориям глагольного времени [Там же: 136—142]. Поясним координату «здесь» в трактовке Ю.С. Степанова, так как она может вызвать сомнение в ее связи с категориями падежа и предлога. Эта координата лежит в основе указательных слов-наречий здесь, сюда, отсюда – там, туда, оттуда и личных местоимений я, ты (здесь) – он. Подобным же образом возникают первичные, пространственные значения падежей (согласно локалистической теории падежей); здесь, там (где?) – предл. пад.: в лесу; сюда, туда (куда?) — вин. пад.: в лес, отсюда, оттуда (откуда?) – род. пад.: из лесу; каким путем? —твор. пад.: шли лесом [Там же: 139—141]. Резюмируя свои соображения о локации, Ю.С. Степанов отмечает: «Локация, или абстракция отношений, возникающих вокруг говорящего «Я» в акте речи как центрального ориентира, лежит в основе третьего типа, или класса, грамматических категорий: лицо, число, время, падеж, предлоги и наречия в грамматической функции, местоимения. Эти категории развиваются по мере метафорического смещения координат «я – здесь – сейчас» от актуальной точки (акта речи) к неактуальным (удаленным в пространстве и времени)» [Там же: 142].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/1081590/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk.webp)