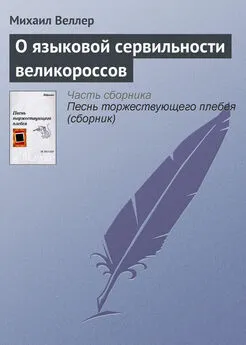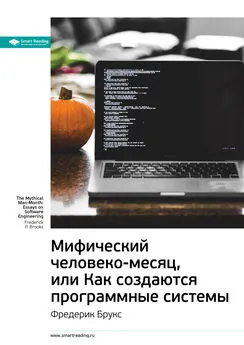Михаил Шелякин - Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы
- Название:Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:5-89349-829-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Шелякин - Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы краткое содержание
В книге развивается идея об адаптации языковой системы к биосоциальным особенностям человека и осуществлению им коммуникативного процесса как главном факторе функциональной, системно-структурной и знаковой (семиотической) специфики языка. В качестве иллюстративной языковой системы послужил главным образом русский язык в его общих с другими языками свойствах. В соответствии с поставленными задачами в книге объясняется специфика четырех семиотических измерений языка – языковых знаков, их семантики, синтактики и прагматики, чему подчинена структура книги. В аспекте «Язык и человек» особо рассматривается проблема «Язык и культура».
Для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей филологических факультетов вузов в качестве учебного пособия по курсам "Введение в языкознание", "Общее языкознание", "Семиотика языка".
Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В истолковании эгоцентрической природы пространственных значений падежей в концепции Ю.С. Степанова осталась невыясненной пространственная природа именительного и дательного падежей. Однако, как представляется, и они по происхождению восходят к этой первичной системе падежей. Поскольку с обозначением говорящего лица «я» коррелирует «здесь», «сюда» (самая ближайшая пространственная область «я» как точка отсчета), то можно предположить, что именительный падеж в пространственной системе падежей обозначал говорящее лицо, устанавливающее свое пространственное положение и направление по отношению к себе: ср. Я иду в школу, из школы и т.д. В том, что именительный падеж некогда обозначал говорящего, убеждает и тот факт, что он выступает в синтаксической позиции субъекта предложения, природа которого связана с обозначением «я» (о чем см. выше). Что касается дательного падежа, то его первичным значением было не адресатное, а направленно-контактное, в отличие от винительного направленно-инклюзивного падежа, что отличало их по признаку степени отдаленности, подобно здесь – там – вон там, я – ты – он: ср. Я иду к лесу и в лес.
Эгоцентрический принцип в семантической системе языка отражает и отношения реалий к особенностям строения и физиологии человека. Это обнаруживается в ряде лексических групп и, видимо, в полной мере может быть раскрыто в соответствующих этимологических исследованиях. Проблеме отражения в языке особенностей чувственного познания пространства и цвета человеком посвящена статья известного отечественного психолога Ф.Н. Шемякина «Язык и чувственное познание» [Щемякин 1967]. Автор отмечает, что лексические названия пространства, в котором нет никаких «выделенных» точек и направлений «верх» или «низ» и т.д., отражают восприятие пространства человеком, имеющим асимметрическое строение тела как точку отсчета измерения: «Различие между его верхней и нижней частью, передней и задней, правой и левой сторонами дает человеку возможность дифференцированно воспринимать направления пространства. «Нормальное положение» человека в пространстве называется его вертикальная поза... Нормальное положение тела является началом координат, куда человек ставит себя, воспринимая и представляя пространство» [Там же: 40]. Отсюда и соответствующие названия по линии взгляда: вверх – вниз (к голове и ногам), вперед – назад (прямо перед собой и за спиной, за которой человек ничего не видит), направо – налево (по линии вытянутых во фронтальной плоскости правой и левой руки, которые различаются по признаку деятельной и помогающей руки). Ф.Н. Шемякин приводит многочисленные примеры из разных языков на способы обозначения пространственных направлений путем соотнесения их с частями тела человека: с головой для обозначения «вверх», с ногами и седалищем для обозначения «вниз», со спиной для обозначения «назад», с лицом, зрением, грудью для обозначения направления «вперед». Направления «направо» и «налево» различаются в языках по признакам «более удобная» / «неудобная» и «неуклюжая, неловкая». Что касается названий цвета, то Ф.Н. Шемякин соотносит особенности восприятия человеческим глазом разных цветов, пороги его различительной чувствительности к цветовым и световым тонам с наиболее частотными названиями цветов в различных языках ( красный, зеленый , синий , желтый), а наличие во всех языках названий для белого и черного цвета – с восприятием смены дня и ночи. В общем выводе автор статьи подчеркивает: «Анализ названий направлений пространства и названий цвета приводит к выводу, что в языке они упорядочиваются не по образцу логической системы понятий, а применительно к внутренним закономерностям чувственного познания человека, который находится не в созерцательном, но в активном отношении к миру» [Там же: 55].
8.2. Основные положения об отражении эгоцентризма в семантической системе языка
Обобщая изложенное понимание отражения эгоцентризма в семантической системе языка, отметим, что принцип эгоцентризма стал пониматься в лингвистике расширенно – как любое проявление в языковых значениях отсылки к говорящему. При этом имеется в виду не только современная семантическая система языка, но, как предполагается, и исторически изначальная, впоследствии метафорически развитая семантическая система. Однако если учесть, что говорящий человек выступает прежде всего как субъект сознания, то принцип эгоцентризма семантической системы можно точнее определить как проявление в языковых значениях отсылки к человеку как субъекту сознания, выступающему в качестве говорящего (субъекта речи).
Функцию субъекта речи человек выполняет в двух типах коммуникации (речи) – диалогической (контактно-адресатной) и монологической. Первый тип коммуникации осуществляется в речевой ситуации (в непосредственном речевом акте), в число компонентов которой входят говорящий, адресат высказывания, общее для говорящего и адресата место и время коммуникативного акта (письменные формы речевой ситуации воспроизводят ее устные формы).
Этот вид коммуникации является исторически первичным, в котором непосредственно проявляется говорящий как субъект сознания, ориентирующийся в речевой и пространственно-временной ситуации и организующий в соответствии с коммуникативными целями свою речь, т.е. сообщающий нечто либо о себе, либо об адресате, либо о неучастнике коммуникативного акта. Сообщая нечто о себе, говорящий тем самым выступает как субъект события (предложения), к которому относится информация (предикат). Сообщая нечто об адресате или о 3-ем лице, употребляя грамматические формы «не говорящих о себе лиц», субъект речи приписывает им ту часть своей субъективной реальности, которая относится к ним (свои знания о них, в том числе сообщенные ему этими лицами, то, что он хочет от них, свои отношения к ним и т.д.). Таким образом, человек в диалогической речи всегда говорит о себе, об адресате или о неучастнике коммуникации, исходя из своей субъективной реальности (такова природа человеческой коммуникации), и выступает в коммуникативном акте в ролях субъекта сознания и субъекта речи, а также в роли субъекта события, если он говорит о себе. Если он говорит не о себе, то, осознавая себя подобным другим, он ставит «не говорящих лиц» в коммуникативном акте в положение таких же реальных субъектов сознания, речи и событий, каким является он, что определяет однотипность субъектно-предикатных структур во всех грамматических лицах. Ср. Я/ты/он вчера пришел домой поздно. Я/ты/он сказал: «Я/ты/он вчера пришел домой поздно». Эта подстановка «не говорящих лиц» под говорящее лицо сохраняется и в косвенной речи реального говорящего, которому принадлежит пересказываемое содержание речи «не говорящих» в коммуникативном акте лиц: ср. Ты сказал , что я/ты/он вчера пришел домой поздно. Однако в связи с тем, что косвенная речь пересказывает чужую речь, личные местоимения и личные формы глаголов в ней употребляются с точки зрения реального говорящего: как в авторской части, принадлежащей реальному говорящему и выражаемой главным предложением, так и в пересказываемой части, принадлежащей речи «не говорящих» в коммуникативном акте и выражаемой придаточным предложением. Ср. Он сказал (точка зрения автора речи): «Я/ты/он вчера пришел домой поздно» (точка зрения второго автора речи), но Он сказал (точка зрения первого автора речи), что я/ты/он вчера пришел домой поздно (точка зрения первого автора речи). Таким образом, говорящий в прямой и косвенной речи в условиях диалогической речи может представлять себя и другого субъекта сознания как эгоцентрического говорящего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/1081590/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk.webp)