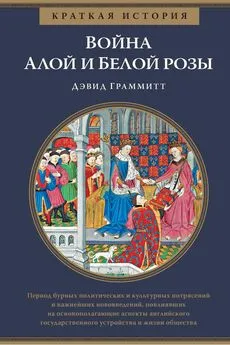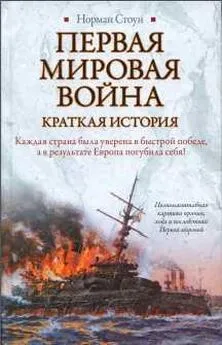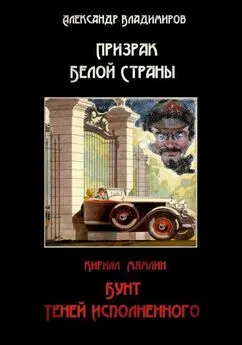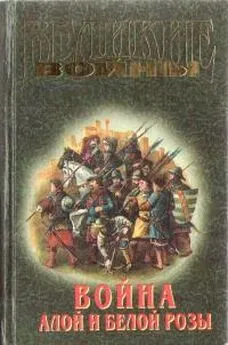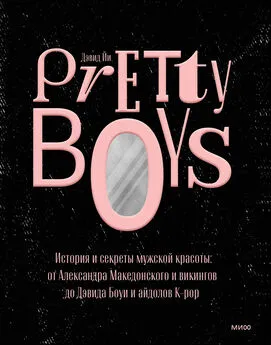Дэвид Граммитт - Краткая история. Война Алой и Белой розы
- Название:Краткая история. Война Алой и Белой розы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:978-5-389-18053-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Граммитт - Краткая история. Война Алой и Белой розы краткое содержание
Книга, снабженная генеалогическими древами, картой, временной шкалой и обширной, структурированной по проблематикам библиографией, будет полезна студентам высших учебных заведений и их преподавателям, а также всем увлеченным английской историей.
Краткая история. Война Алой и Белой розы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Законность режима Ланкастеров зависела отчасти от этого просторечного диалога с народом. То, что среднеанглийский стал языком политических рассуждений, подтверждает и заявление Генриха IV о его правах на престол в парламенте, сделанное именно на английском. Диалог имел двуединую форму. До известной степени поэтические произведения эпохи ранних Ланкастеров, например «Книга о Трое» (1412–1420) и «Осада Фив» (ок. 1422) Джона Лидгейта, оправдывали проводимую короной политику перед народом, но одновременно предлагали внести в нее исправления, стремясь повлиять на решения короля и его советников. «Княжеский регламент» Томаса Хокклива (1412) — один из таких текстов. Даже Лидгейт последовательно подвергал критике природу притязаний Ланкастеров во Франции. Короли династии Ланкастеров вступали в общение с народом в поисках признания и оправдания своей политики через прокламации, поэзию и дискуссии. Такая позиция приносила результаты. Этим объясняется полное оправдание займов как в 1436 году, когда бургундцы осадили Кале, так и в 1443-м, и даже проповедь в 1421 году перед последним отбытием Генриха V во Францию, прочитанная при растущем народном ропоте по поводу цены королевского честолюбия во Франции.
Простой народ порой оспаривал проводимую короной политику. Если присмотреться к росту числа наказаний за подстрекательство к бунту в 1430-х и 1440-х годах, складывается красноречивая картина степени вовлеченности рядовых людей в политику. Это обстоятельство ярко проявлялось в возражениях и жалобах на бедность, с которыми встречали в народе королевских уполномоченных по займам. Возможно, ощущение слишком большого влияния простонародья лежит в основе решения 1429 года об ограничении права голоса в судах графства лиц с доходом с земли менее 40 шиллингов в год, а шесть лет спустя — о запрете избираться депутатами в парламент всем, чей ранг ниже дворянского.
Глас народа, «глас общин», зазвучал особенно громко в 1450 году. В середине XV века «слова коммуны представляли собой речевые фейерверки, взрывавшиеся на людных улицах, вызывавшие множество ассоциаций» [174] D. Rollison. A Commonwealth of the People: Popular Politics and England’s Long Social Revolution, 1066–1649. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 139.
. На всем протяжении двух предшествующих десятилетий стихи на народном наречии, челобитные и прочие сочинения подобного рода, в том числе на темы войны с Францией, налогового гнета и королевских советников, ходили по всему королевству. Сила слова состояла не в том, что кто-то читал эти тексты в одиночестве или в своем кругу, а в том, что они звучали громко, для всех и воспринимались как нечто понятное простому народу, для которого словарь политической терминологии авторов был собственным словарем. Так, Уильям Флит, бедный арендатор богатого землевладельца из Гэмпшира, лично явившийся протестовать в парламентской палате в 1431 году, вооруженный лемехом и сошником, говорил о принуждении и издевательствах на том же языке, что его современники из Абингдона, поднявшие восстание под предводительством Джека Шарпа, или мятежники, приведенные Джеком Кэдом в Блэкхит в июне 1450 года.
Жалобы излагались письменно и устно. В 1450 году катализатором процессов послужило национальное чувство горечи и стыда на волне поражения в Нормандии. Стихи и призывы, направленные против короля и его советников, множились, распространялись и корректировались в соответствии с характером слушателей. В этих сочинениях звучали жалобы о предательстве советников и об их алчности, приведших к проигрышу в войне и к обнищанию короны и народа. Пусть подобные сетования и представляли собой нечто совершенно обычное для позднесредневековой политической культуры, они обретали актуальность и остроту в свете потери Нормандии и парламентского разбирательства против Суффолка. Воззвания Кэда составлялись как раз одновременно с заседаниями парламента, и современники отмечали, что множество подобных произведений распространялось в Лондоне и других местах в течение заключительной сессии парламента, в период между апрелем и июнем. Простонародье по-своему интерпретировало последние события и жестоко отомстило тем, кого сочло ответственными, — герцогу Суффолку, епископам Моленсу и Энскау, барону Сэю. Причудливое и сложное понимание государственного устройства отлично проявилось в словах обвиненных в убийстве Суффолка моряков, которые по предъявлении им герцогом гарантий свободного передвижения от короля отвечали, что «король сей им неведом, но ведома, и хорошо, корона Англии, говоря, что эта корона есть сообщество королевства и что это сообщество королевства и есть корона» [175] R. Virgoe . The Death of William de la Pole, Duke of Suffolk // C. Barron, C. Rawcliffe, J. Rosenthal. (eds.) . East Anglian Political Society and the Political Community of Late Medieval England. Norwich: Centre for East Anglian Studies, 1997. P. 253.
.
В 1450 году политика направлялась повесткой, явно установленной народными представителями. В январе Суффолк, которому грозил импичмент в парламенте, осознавал происходящее и ругал «одиозный и мерзкий язык, что изливается по вашей стране едва не изо рта всякого простолюдина» [176] A. Curry (ed.). Henry VI: Parliament of 1449 November. Text and Translation // PROME. Item 15.
. Не позднее апреля правительство сделало в Лондоне и Мидлсексе заявления (пусть на сей раз и на латыни) против размещения прокламаций. Вместе с тем очевидно, что король и политическая верхушка оказывались бессильными в попытках остановить распространение слухов и стремление народа напрямую вмешиваться в политические и судебные процессы. Позднее в том же году корона принялась издавать декларации на английском в расчете обрести контроль над политическими рассуждениями. Восстание Джека Кэда, возможно, в первую очередь вызвало слух о том, будто депутатов общин Кента собираются казнить за убийство герцога Суффолка. Но истоки возмущения следует искать в реакции людей на поражение во Франции и в распространении убеждения в скверном управлении страной. Если, однако, заглянуть глубже, причины могут крыться в усилении народа как политической силы в позднесредневековой Англии и в шаткости государственного устройства династии Ланкастеров, построенного на зыбкой основе диалога между верхушкой и народом.
На всем протяжении следующих двух десятилетий формировался язык политического инакомыслия и повестки реформ, зародившейся в народе, но усвоенной и задействованной политической верхушкой. Куда важнее, впрочем, что реформистская платформа Ричарда Йоркского как основа для брошенного им в 1450-х вызова короне была, в сущности, народной. Судебные разбирательства против королевских чиновников в Кенте на протяжении лета 1450 года и жалобы на придворных и слуг из королевского окружения в парламенте ноября того же года звучали отзвуком требований мятежников Кэда — требований, ставших основой критики герцогом Йоркским королевского правительства. Восстание Джека Кэда вовсе не было организовано Ричардом Йоркским для наступления на врагов при дворе (как заявляли позднее его противники из стана Ланкастеров): герцог примкнул к народу-победителю в стремлении вырваться из вызванной им же самим политической опалы. Такие сторонники герцога Йоркского, как сэр Уильям Олдхолл в 1453 году, присвоили механизмы народных политических действий — составление и распространение прокламаций для нападения на своих политических противников; но к 1456 году «на эту протестную литературу Йоркской партии нашелся ответ в виде встречных претензий со стороны Ланкастеров» [177] W. Scase. Literature and Complaint in England 1272–1553. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 135.
.
Интервал:
Закладка: