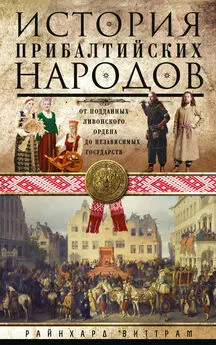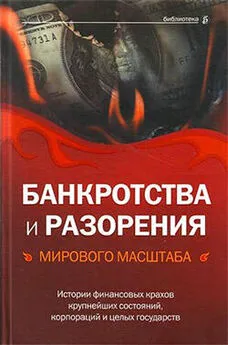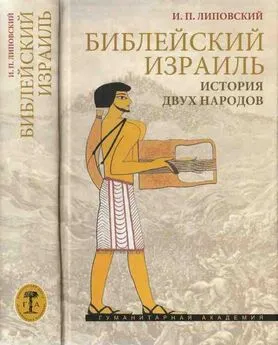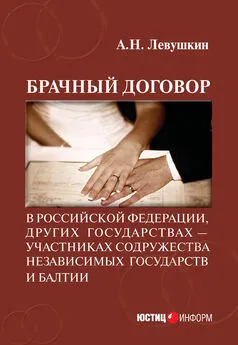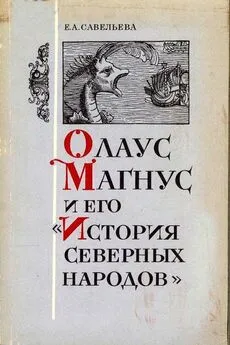Райнхард Виттрам - История прибалтийских народов. От подданных Ливонского ордена до независимых государств
- Название:История прибалтийских народов. От подданных Ливонского ордена до независимых государств
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5449-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Райнхард Виттрам - История прибалтийских народов. От подданных Ливонского ордена до независимых государств краткое содержание
История прибалтийских народов. От подданных Ливонского ордена до независимых государств - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому в противоположность к своевольным, легкомысленным и продажным чинушам сохранившиеся воспоминания о прошлых служащих вызывали особое чувство, и немцы начинали рассматривать верность и порядочность старых властей как нравственную ценность. В результате такого политического темперамента они стали отвергать все, что было связано с Россией, которая, по выражению члена Рижского городского совета Макса фон Эттингена (1843–1900), сделанному им в 1887 году, представлялась им как некий дикий горшок, где из православия, нигилизма, чиновничества, бумажных рублей, водки и динамита изготавливалась великая «русская идея».
Понятное дело, что при такой установке нередко доходило до агрессивных и далеко не умных выражений. Более того, существенной предпосылкой для сохранения у прибалтийских немцев воли к сопротивлению являлось то, что их суждения зачастую были односторонними и несправедливыми. По вызывающим неприязнь чиновникам они часто судили обо всем русском народе, а по необразованным и недостойным духовного звания священникам – о русской церкви. Кроме того, несправедливой оценке православной церкви, не считая того, что немцы считали себя атакованными с ее стороны, частично способствовал и культурный протестантизм, которому прибалтийская протестантская церковь была совсем не чужда.
В такой обстановке старая руководящая прослойка прибалтийских немцев приняла решение, невзирая на всевозможные жертвы, отстаивать верховенство народного духа и родного языка. Были отделены от общества по возможности все вероотступники, оппортунисты и ренегаты, что происходило зачастую довольно беспощадно. Для того же, чтобы обеспечить детям немецкое образование, начался переход к частным урокам на дому, осуществлявшийся при поддержке дворянства в форме многочисленных «кружков», а в 1892 году в Дорпате без согласования с соответствующими инстанциями начала работать учительская семинария.
В те времена для немцев из Лифляндии, Эстляндии и Курляндии стало применяться название «прибалтиец», явившееся новым словом и понятием. И если обозначение «прибалтийский» в середине века обычно связывалось с новым содержанием, подразумевая все без исключения явления, происходившие в остзейских провинциях, то отныне название «прибалтиец» стало относиться только к немцам, отражая изменившиеся условия. На латышей же и эстонцев это обозначение начало распространяться только в связи с глубокими переменами в годы Второй мировой войны.
Одновременно, правда, множились признаки того, что остзейские провинции ожидает более тесное их привлечение к жизнедеятельности России. И если успехи непосредственной русификации оказались в целом незначительными, то отрицать косвенное ее воздействие было нельзя. Это выражалось в первую очередь в растущем экономическом сращивании с русской глубинкой. Уже первые железнодорожные линии, связавшие Прибалтику с внутренней частью России, а именно Рижско-Дюнабургская железная дорога в 1861 году и дорога между Ревалем и Санкт-Петербургом в 1870 году, открыли большие экономические перспективы. В результате, начиная с последней четверти XIX столетия, в остзейских промышленных кругах стала наблюдаться растущая готовность связать свою судьбу с русским государством.
С русской же школой, несмотря на упорное ее неприятие, в прибалтийских провинциях появились известные русские культурные элементы. При этом важное значение имело то, что в русифицированном университете, который по-прежнему объединял немецких студентов, преподавали отнюдь не политизированные фанатики или второсортные педагоги. Кафедру русской истории, например, с 1891 по 1903 год возглавлял выдающийся русский позитивист Е.Ф. Шмурло, а позднее профессором в университете был Е.В. Тарле, прославившийся своим даром читать лекции. Среди юристов выделялись историк права М.А. Дьяконов (до 1904 года) и будущий министр народного просвещения Л.А. Касс, а среди медиков – патологоанатом В.А. Афанасьев.
Студенческие корпорации, существенно способствовавшие тому, чтобы университет не потерял своей притягательной силы, выполняли национальную задачу еще больше, чем прежде. Однако тот факт, что они решали также воспитательные задачи, что признавал губернатор Зиновьев, защитил их от неоднократно возникавшей угрозы роспуска. Тем не менее в 1894–1904 годах в Дорпате им было запрещено публичное ношение цветных атрибутов, говорящих об их принадлежности к тому или иному студенческому братству. Вместе с тем многих молодых людей в крае начала заставлять задумываться мысль о целесообразности учебы в Дорпатском университете из-за перспективы уделять основное внимание участию в жизни сохранившей свои силы корпорации.
Однако чужой образ мыслей все же проникал в Прибалтику. Ведь тесные экономические связи с Россией вместе с воздействием на прибалтов одаренных русских писателей и музыкантов не могли не оказывать определенного влияния на их нравы и обычаи, не раз превращаясь в своеобразную форму частичной русификации. Такое было неизбежным, поскольку если она заключалась даже только в воздействии на литературные и эстетические вкусы, то и в этом случае легко могла привести к изменению всего образа мыслей народа.
Именно такие изменения намечались у латышей и эстонцев, поскольку подобные глубоковоздействующие меры, как переселение русских крестьян в прибалтийские провинции, чего требовал еще Самарин, к серьезным последствиям не привели. Однако пристальное внимание они привлекли к себе лишь накануне Первой мировой войны, которая их осуществлению помешала.
В целом русские не смогли достаточно тесно сблизиться с прибалтийскими крестьянами, а работа православной церкви по их обращению в православие не привела к глубоким переменам ни у латышей, ни у эстонцев. К тому же русификационное влияние народных школ было незначительным.
Что же касалось городского населения, то на него политика русификации оказала значительно большее влияние, что обусловливалось русификацией всех возможностей получения образования, а также непосредственным воздействием властей. Теперь подъем по социальной лестнице не приводил к традиционному и само собой подразумевавшемуся онемечиванию. Он стал сопровождаться если не обрусением, то как минимум вхождением в магический круг русских ценностей.
Этому в значительной степени способствовало заметно возросшее после русификации местных высших учебных заведений число латышских и эстонских студентов. К тому же наиболее одаренные летты и эсты все чаще стали проходить обучение в университетах в глубине России. Вдобавок московская община целиком и полностью находилась под влиянием уже упоминавшегося Христиана Вальдемара. Поэтому отношение к немцам у тех, кто учился в старом германском Дорпатском университете, и у представителей молодого поколения, получивших образование в России, бесспорно, было различным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: